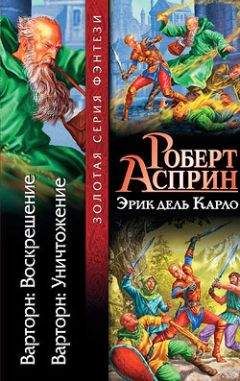Полежаев перевел дыхание и указал пальцем на Хвостова.
— Он купил ваше человеческое достоинство! Купил за горсточку свинячего корма. Он не о вас заботится! Ему наплевать на вас! Ему хочется только повелевать…
Толпа смотрела на поэта тупо и безмолвно, и было непонятно, осмысливает ли она слова поэта, или наоборот. Наконец Хвостов, оправившись от ошеломления как вор, застигнутый врасплох, медленно выпрямился и вдруг визгливо крикнул:
— Вот он! Один из ваших врагов!
Третий звериный рев, перекрывший все предыдущие, сотряс всю рощу в радиусе двух километров, и толпа сумасшедше бросилась на поэта.
Звезды посыпались из его глаз. Он почувствовал, как его тело полетело в толпу, будто в бушующее море, как понесла его куда-то стихия ног и кулаков, будто пловца смытого с палубы. Он чувствовал, как крошатся зубы, трещат суставы и ломаются ребра, а стихия продолжала его швырять с размаху то об обшивку днища, то о бетонные сваи…
11
Очнулся Полежаев в лазарете административного домика на жесткой кушетке, перевязанный с ног до головы белоснежными бинтами, и первое, что он увидел, склонившуюся над ним ухмыляющуюся физиономию козлобородого.
— Здорово они вас уделали, — посочувствовал он искренне. — Звери! Что ни говорите — звери. Неуправляемая толпа! Только мое магическое влияние спасло вашу жизнь. Любят они меня, подлецы…
Полежаев не чувствовал тела и не мог говорить, потому что на челюсть была наложена шина.
— Да… — задумчиво вздохнул козлобородый, — эти орхаровцы пойдут за меня в огонь и в воду. Вот что может сделать горсточка желудей. А как они вам нравятся в роли штурмовиков? — рассмеялся вдруг Хвостов.
Полежаев закрыл глаза, и ему захотелось потерять сознание или провалиться в преисподнюю лишь бы не видеть и не слышать этого человека. И будто уловив безрадостные мысли Полежаева, Хвостов вздохнул притворно:
— Ничего-ничего… Терпите!
Через некоторое время в комнату вошел угрюмый старик в черной робе и что-то шепнул своему начальнику на ухо.
— Весьма вовремя! — воскликнул Хвостов. — Ведите ее сюда! Да-да, сюда в лазарет. — Вошла Наташа, сопровождаемая здоровенным молодым парнем. Увидев перевязанного поэта, она побледнела и затряслась.
— Ну что, милая? — обратился к ней ласково Хвостов. — Ослушалась меня? Все-таки не вколола третий укол… Пожалела живого классика.
— Нет-нет, — залепетала Наташа, — я колола… Я всем колола и ему вколола. Спросите у него самого.
— Знаем такие штучки, — расплылся в улыбке Хвостов. — Глюкозу ты ему вколола! Да-да, глюкозу!
— Нет-нет! — продолжала Наташа. — Я хорошо помню…
— Вот видишь, чем кончается ослушание? — перебил громко козлобородый. — Переломанными костями! Он должен сейчас наслаждаться жизнью и прихрюкивать от удовольствия!
Голос его приобрел металлический оттенок. Наташа расплакалась.
— Может, я перепутала шприцы, но не специально… Ей богу не специально. Простите…
— Несите пробу, вздохнул Хвостов.
Наташа с визгом бросилась на колени. Ее грубо подняли. Старик в черной робе молча принес чемоданчик со шприцами и тарелку желудей.
— Вы говорите, что человеческая воля устоит перед чем угодно? — промурлыкал Хвостов, сверкнув очками на бедного поэта. — Демонстрирую специально для вас!
Истерически визжащей Наташе закрутили руки за спину, заткнули рот и, закатав по локоть рукав, лихо всадили в руку шприц.
Наташа утихла. С минуту была не в себе. Взгляд ее затуманился, отупел, затем стал сумасшедше блуждать по комнате. Наткнувшись на тарелку с желудями, ее зрачки расширились до невероятных размеров. Она с визгом вырвалась из рук здоровяка и сумасшедше набросилась на тарелку. Было жутко смотреть, как она жадно со стоном пожирала желуди прямо с кожурой. Отпав от тарелки, она жадно обвела глазами лазарет, и Полежаев не узнал ее лица. Это была морда ненасытной куницы.
— Сволочь! — выкрикнул поэт и от прострелившей его боли потерял сознание. Козлобородый яростно подскочил к кушетке и наотмашь три раза ударил поэта по скулам. Потом опомнился. Взял себя в руки.
— Укол, — сказал он, сдерживая в себе злость, — немедленно!
Подошел старик в черной робе и без лишних слов вколол Полежаеву «желудин» прямо через бинты. Парень тут же с готовностью поднес тарелку с желудями.
— Но он без сознания, — удивился парень.
— Ничего… Скоро придет в себя, — процедил сквозь зубы директор.
— А разве препарат действует, если его сразу не закрепить желудями? — преданно спросил парень, подхалимски моргая глазами.
— Должен действовать! — рявкнул Хвостов и вышел вон.
12
Несколько дней лежал в лазарете Полежаев без движения. Даже неосторожный вздох причинял ему невыносимую боль во все теле. Старик в черной робе угрюмо и грубо поил поэта из жестяной кружки мясным бульоном. Насколько серьезно был искалечен Полежаев никто не говорил. Ему не накладывали даже никакого гипса и не делали перевязок. Ночами Полежаев стонал от невыносимой боли в груди и в суставах. Забывался только под утро. Утром его будило отвратительное хрюканье на площади во время завтрака, а во время обеда он ежедневно слышал из лазарета возбужденную речь Хвостова с кабины ЗИЛа.
После своей речи багровый и довольный собой Хвостов непременно навещал больного поэта. Он долго и отвратительно рассуждал о дальнейших своих планах преобразования мира, вскользь упоминал о Наташе, о том, что она прогрессирует и уже просится в команду Ниф-Ниф, и что ее недоступность и добропорядочность как рукой сняло после двух кубиков; теперь она за два желудя отдается любому встречному. При этом козлобородый хохотал и уверял, что «желудин» обнажает истинную потаенную суть каждого человека.
«Посредственность, опьяненная властью, всегда неистова, — думал Полежаев, слушая Хвостова. — Не нужно бояться убийц и садистов — их по крайней мере видно. Нужно осторожней быть с посредственностью, из которой вся эта братия исходит. Для человечества нет ничего опасней бездарности, возомнившей себя гениальной. Художник, уходящий в политику, кончается как художник и начинается как посредственность, ибо игра политики — это тоже игра посредственности. Как гений всю жизнь жаждет свободы, так бездарность всю жизнь алчет власти, но самое отвратительное, достигая ее, она втягивает в свою мышиную возню лучшую часть человечества».
Так думая и слушая бредни Хвостова, Полежаев однажды не выдержал и бросил ему с кушетки:
— Вы слишком бездарны, чтобы правильно осмыслить изобретенный «желудин».