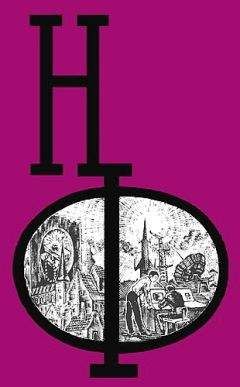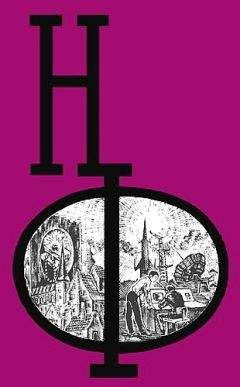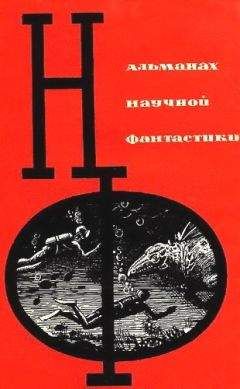Так обстояло дело.
— Не смей поднимать глаз! — вопил во мне два миллиона один кочк, и где уж было одинокому Хосе Альваресу, да еще в том жалком состоянии, в каком он находился, переспорить стольких противников?
Не слово, а сила решила исход диспута, это случалось в мире не раз и прежде. Донна Бланка ущипнула меня за подбородок и вздернула мне голову, так что хрустнули позвонки.
— Смотри! — увещевала она. — Смотри, какая я выше ватерлинии и ниже, от одного борта до другого, от носа до кормы. Пяль глаза и, если в тебе осталась хоть крупица живого, следуй за мной.
Я повиновался, как сделал бы на моем месте каждый.
Я шел, утопая в розово-золотой мгле, как муха в варенье. Изо всех сил вырываясь из мглы. Шел, хотя два миллиона один кочк тянул меня назад.
— Пей! — прогремел голос привидения, когда мы достигли Источника Ясности.
Я склонился к голубому водоему, в середине которого пенился водоворот, и несколько минут, не отрываясь, глотал прохладную влагу.
Призываю в свидетели фармацевтов, врачей и аптекарей, все уважаемое племя отравителей, обременяющих наш шарик, — это была вода! Напиток Ясности представлял собой обыкновенную прозрачную и холодную ключевую воду.
Утолив жажду, я шагнул к Бланке. В то же мгновение привидение стало таять, как сахар в кипятке, и вскоре бесследно исчезло.
— Берегись, лупоглазый бурдюк! — слабо донесся из пустоты знакомый голос. — Берегись, иначе, бьюсь об заклад на четыре бочки рому против дохлой каракатицы, тебе не поздоровится.
Я огляделся! И вовремя. Со всех сторон к Источнику мчались кочки, размахивая ржавыми алебардами. Выбора не оставалось. Я набрал воздуху и нырнул в водоворот. Ревущий поток подхватил меня, увлек в подземную тьму и минуты через три выбросил на океанские просторы.
За грядой айсбергов постепенно скрывалась Иллюзония. Вблизи тем же курсом неслась по течению плоская льдина. Не без труда вскарабкавшись на нее, я устроился с возможными удобствами. Три дня океан оставался пустынным. На четвертое утро слева по борту показался эскадренный миноносец под флагом островов Святого Петра и Павла.
Я был спасен!
Долгие дни пребывания в Иллюзонии отошли в прошлое, и мало что еще осталось сообщить мне в этих записках.
С одиннадцати часов, когда открываются двери «Шестерых гусят», я неизменно стою за стойкой рядом с донной Бланкой, вдовой капитана Грасиенто, которая с благословенья падре Пабло Томасо стала моей супругой.
Я помогаю ей наполнять бокалы и успокаивать тех из завсегдатаев, которым хмель ударил в голову.
— Хосе променял капитанский мостик на бочку вина и мягкую постель, — шепчутся недоброжелатели и завистники — у кого их нет!
Пока не в моих силах заткнуть глотку недругам. Но, не для широкого оглашения, скажу все же, что капитан Хосе Альварес обязательно вернется к родным стихиям, лишь только до конца разгрузит свои трюмы.
Всякого рода нотариусы, стряпчие, писаря из мэрии и прочие судейские крючки сразу примутся ломать голову:
— Что именно хотел сказать Хосе, который никогда не бросал слов на ветер, странным своим заявлением «я вернусь в океан, лишь только до конца разгружу свои трюмы?»
— Быть может, где-либо у укромного необитаемого острова или кораллового атолла стоит корабль, полный золота, серебра, рубинов и алмазов, вывезенных Хосе из Иллюзонии, — будут догадываться, теряя сон и аппетит всевозможные Рокфеллеры, Ротшильды и Морганы.
— Вздорная болтовня! — скажу я в ответ на подобные толки.
Слово Хосе: под выражением «лишь только когда разгружу свои трюмы» следует понимать именно это — «лишь только когда разгружу свои трюмы», и ничего иного. А как именно следует понимать, станет ясно после прочтения последних страниц этих правдивых записок — они уже приближаются.
…Я наполняю кружки до той поры, когда начинает смеркаться, и в нашем подвальчике загораются лампы.
— Бланка, любимая, — шепотом говорю я тогда доброй моей супруге. — Разреши мне отчалить в спальню, потому что сейчас я заквакаю.
— Что ж делать, иди! — вздыхая, неизменно отвечает добрая донна Бланка.
Я поднимаюсь по винтовой лестнице в спальню, расположенную на втором этаже.
Чувствуя надвигающиеся сумерки, иллюзонские лягушки, живьем проглоченные мною, начинают истошно квакать, как поступают эти нечистые создания во всех странах света. Особенно старательно квакают они в лунные ночи.
Они квакают тогда так громко, что заглушают гудок лайнера, отправляющегося в этот час за океан, грохот машин и пение пьяных матросов на улице.
Я закрываю окна и двери, чтобы кваканье не доносилось до посетителей «Шестерых гусят» и до прохожих; было бы трудно каждому объяснять, что в этом естественном явлении не заключено чертовщины.
Когда двери закрыты, я сажусь у окна и раскрываю рот так, чтобы лунный луч проникал в самое нутро.
Лягушки и жабы, привлеченные светом, выпрыгивают из меня. Плюх-плюх-плюх — одна за другой шлепаются они на пол.
— 996… 995… 994… - считаю я про себя.
Я провел в Иллюзонии 176 дней, глотая ежедневно по десять-пятнадцать лягушек и жаб. Значит, всего их во мне скопилось, как по моей просьбе высчитал падре Пабло, не меньше 1760 штук и не больше 2640; всегда вернее набраться терпения и приготовиться к худшему.
1646 лягушек и жаб уже выпрыгнули из меня. Сегодня луна светит особенно ярко, и проклятые твари прямо-таки сталкиваются в глотке.
Плюх-плюх — сразу две! Осталось 992. Плюх-плюх-плюх — осталось 989. Плюх — 988!
Плюх — это выскочила малиново-синяя барбарная жаба; им я веду особый счет. Пока хоть одна из них внутри, я буду барбарбарить невесть что, даже если бы заткнул себе пасть кляпом из просмоленной пеньки.
Плюх — еще одна барбарная жабка.
Сегодня удачный вечер.
Ночь. Лягушки затихли. Я сажусь к столу и принимаюсь за эти свои записки. И я стараюсь писать возможно быстрее — ведь надо закончить до того, как Бланка закроет таверну. Она не любит моих записок и запрещает даже думать об Иллюзонии.
— Все это вздор, Хосе, дорогой, — говорит она. — Ставлю четыре бочки рома против дохлой каракатицы, ты никуда не выезжал из нашего городка и провел все эти сто семьдесят шесть дней в больнице после того, как одноглазый Санчос Контрерас разбил о твою башку пивную кружку за то, что вместо «Вива эль Каудильо!»[11] ты крикнул «Абако эль Каудильо!»[12]
Я не спорю с Бланкой: с женщиной не спорят, особенно если женщина прекрасна.