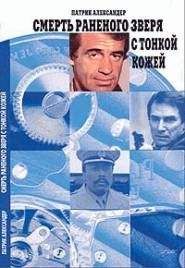И лишь тогда понял: она сейчас тщательнейшим образом разгружала его способности в пси-построениях, даже ментальную связь заглушила и общалась словами, будто светила горящей лучиной.
«Я настраиваюсь». – «Незаметно, какие-то глупости соображаешь, а дела нет». – «Предположим, когда в поиск собиралась, ты сама такие глупости передумала… Едва про детей не заговорила». – «Я до поиска, а ты – сейчас. Большая разница…» – и вдруг она рявкнула, как настоящий сержант на плацу: «Думай, черт тебя побери!.. Впрочем, ладно, просто думай, ну, пожалуйста».
Он попытался вспомнить, о чем соображал, когда увидел прошлый раз ожерелье миров. Ничего не вспомнил, мог бы обратиться к записям в их бортовом компе, кстати, они были в отличном качестве, с полноценной пси-дорожкой, но решил по-другому. Просто стал соображать, куда им двигать. Вот именно, куда? Не назад же, как Гюлька от измотанности предложила, следовало хоть что-то сотворить тут, раз уж вышло, что они сюда попали… Что-то тогда он правильное заметил, а может, расфилософствовался?.. Или следовало представить какие-нибудь законы мироздания, глядишь, и выйдет у него что-то, с чем и вернуться не грех, вернуться домой, на свою Землю…
Кстати, а почему до сих пор ни один из экипажей не заблудился настолько, чтобы… вовсе выйти в другую реальность? Мысли у него поплыли, а вот был ли в том виновен оранжевый свет или он сам каким-то образом выходил на возможность подсмотреть переход к ожерелью миров – это было непонятно. Словно бы издалека, как до него доходили сигналы группы техподдержки, он разобрал мнение Гюльнары:
– Ты бы не засыпал, друже… – оказывается, она опять говорила вслух. Или ему показалось?
И вдруг из марева, которое вокруг них устроили медленно плавающие, словно осенние листья с деревьев, блики оранжевого света, через их странную музыку, сложную и неожиданно знакомую, он стал что-то различать, будто ему полгалактики положили на ладонь. Это было очень необычное впечатление, но он действительно начинал видеть… Полуспираль их Млечного Пути приблизилась к нему, и в ее изогнутых рукавах, состоящих из мириадов миров, вдруг стали проступать какие-то… Нет, дорогами это невозможно было назвать. Но на изображение самих дорог на обычных человеческих географических картах это смахивало.
И откуда это приходило, кто наводил на него такое состояние… «Это же – иное пси-сообщение», – подумалось ему, и тогда он стал видеть… как можно по этим путям ходить, с такой скоростью, что их машинка, в общем-то с довольно слабой системой искусственной гравитации, могла не выдержать. И тогда их попросту раздавит в скорлупке, которой Гюльнара совсем недавно так по-детски восхищалась, если они отправятся в этот путь… Но это было, в принципе, возможно. И теперь он снова отчетливо мог различить – из той воронки пространства, в которой они оказались, которую кто-то из них назвал лагуной спокойствия, пролегал путь к целому ряду… звезд? Так это и есть – звезды?
И еще – планеты: оранжевые, пурпурные, голубые, синие до боли, до рези в глазах, и лишь одна из них голубенько-зеленая, и с белесыми разводами, как предстают на фотках из космоса большие скопления облаков. Всего одна. Сейчас в его странно соображающем сознании она стала, словно в телескопе, подниматься к его представлению, к его способности ее разглядеть, только не глазами, конечно, а другим способом, вроде как более глубоким органом, устроенным в его мозгах и совсем не похожим на глаза…
Он попробовал передать это Гюльнаре, чтобы она тоже увидела внутренним представлением своим, и чтобы никто его больше не считал выдумщиком, придумавшим, вообразившим это ожерелье миров, чтобы сделаться неким феноменом, уникальной личностью, способной на такое, что недоступно другим… Но этого и не требовалось, потому что Гюльнара все поняла.
Но она поняла это по-своему, как пилот параскафа. Она увидела, как можно войти в этот вихрь, в эту пространственную воронку, чтобы выйти с другого ее конца, поближе к зелено-голубой планетке у желтовато-охристой звезды… И она стала действовать. Заложила какой-то немыслимый рывок, потом тряхнула машину так, что, несмотря на защитную внутрикорабельную систему антигравитации, у него зубы заломило, ударило друг о друга, хотя это и трудновообразимо в теории… Да вот на практике, оказывается, бывает! Она совершила этот маневр еще раз, еще резче. Где-то в корпусе их кораблика завыли аварийные пищалки, они звуком пробивались под его шлем, и никакие наушники от этого стона-рева-грохота не спасали.
Половина экранов перед ним погасла, потом на его пультовом столе стало происходить что-то невероятное, будто бы деревья вырывались с корнем от ветра, так и его сигналы на экранчиках и даже обычные лампочки – все разом взбесились. Он поправил шлемное представление органов управления, вгляделся, пытаясь хоть что-нибудь понять, но ничего у него не выходило. А потом… Они вдруг стали двигаться очень быстро, вернее – так быстро, как не бывает никогда, как даже в теории относительности, утверждающей, что не могут материальные объекты обгонять свет… В общем – это было невозможно, но это так же, как стуканье зубов, было. И становилось еще сильнее… Эти ощущения начинали давить на мозги, на все устройство его нервов в теле, на саму способность представлять мир вокруг. Это было похоже, наверное, на смерть, хотя и непонятно, кто же его из этой смерти вернет назад, а может, никто и не вернет?!
Эта мысль и зависла у него в мозгах, как повторяющийся оборот с куском дурацкой, быстро надоедающей песенки на старых, играющих еще на виниловых дисках граммофонах.
Он приходил в сознание пару раз, чуть очухивался, может, на какие-то мгновения… чтобы снова отключиться. Но в памяти у него осталось присутствие все еще сознающей мир Гюльнары, она, словно огромное и страшное существо, почти неотличимое от чудовищ, одно из которых сожрало несчастного Шустермана, нависала над ним, вот только не хотела сожрать, а, кажется, пробовала вызволить из беспамятства, вернуть к жизни… Хотя, по ощущениям, уж лучше бы не возвращала, потому что жизнь была и болезненна, и кошмарна, и по-настоящему травмировала его, как бетонная плита неимоверной тяжести, которая на него свалилась. «Так чувствует себя муха, когда ее настигает мухобойка», – решил он.
Ромка снова пришел в себя, разбирая какие-то странные и, как ему казалось, бессистемные сигналы на пульте перед собой, шлема на нем не было, ему стало страшно. Но страшнее оказалось то, что Гюльнара болталась в своем кресле, как засохшее, неживое ядрышко орешка, сморщенное и бесплодное. Он потянулся к ней, чтобы помочь, хотя не представлял, как это сделать, и снова – все на этом его усилии оборвалось.