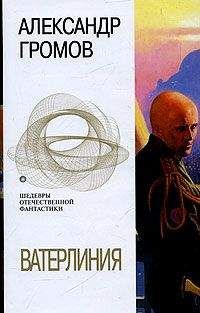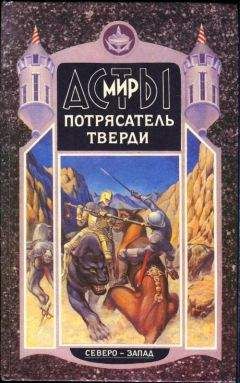Но Пескавин уже знал, что сделает это.
* * *
Он бежал в вязком снегу, не разбирая дороги, проваливаясь и снова выскакивая на наст; один раз он упал и в краткий миг, перед тем как подняться и побежать дальше, почувствовал, как в груди бешено колотится сердце. Его бил озноб. Все размылось, снег лепил в глаза тяжелыми липкими хлопьями, и Пескавин, хватая ртом сырой воздух, размазывал их по лицу. Иногда навстречу попадались мумии, и тогда он резко сворачивал в сторону, но мумии были и здесь, выныривали из метели, и от них невозможно было убежать, их было очень много, на одну из них Пескавин даже налетел, выбив подпорку, отпрыгнул, оттолкнулся от нее руками и побежал, не оборачиваясь, не видя и не желая видеть, как мумия будет медленно, словно в нерешительности, крениться, и как она будет падать, уткнется в снег, и снег под ней чавкнет.
Бежать! Он хрипло дышал – воздух, врываясь в легкие, резал, как тупой нож. Боишься, Текодонт? Ты же мечтал об этой встрече, всю жизнь мечтал, хоть и не следовало, так куда же ты теперь бежишь? Ты не верил, что это возможно, как не верил в то, что мумии все-таки регенерируют, ты запрещал себе об этом думать. Но ведь ты хотел этого, ящер, признайся! Хотел?
«Хотел, – ответил он себе. – Но не теперь».
Можно было остаться. Можно было выдумать целую теорию о том, что способно сделать время с лицом мумии, и никто не помешает всю жизнь исповедовать эту теорию как защиту, убеждать себя и в конце концов убедить. Пескавин глухо замычал на бегу и затряс головой. Он вдруг вспомнил давнее странное ощущение, когда понял, что не может пошевелиться, и свой детский страх, и как сознание медленно гасло, будто тонуло в чем-то черном. А потом – провал на двести лет, какие-то серые тени и пробуждение в оборонном исследовательском центре, люди в мундирах и без, поздравляющие сияющего счастливчика, которому, как говорили вокруг, удалось регенерировать человека из окаменевшего пальца. И еще плач ребенка, который понял, что остался без мамы. Белые потолки, белые стены, очень много стен. Дальше был побег из закрытой клиники, интернат, снова побег, колония для несовершеннолетних на Ржавой Хляби, команда Рифмача, дела и делишки, постижение на практике законов прайда и маска хищника, которая сначала была маской, а потом стала лицом. В новом мире не падали ракеты и не умирали города, и этот мир казался лучше прежнего. Он был прост для освоения. Один из первых уроков показал, что глупость и необдуманность действий в новом мире наказуемы так же, как в старом. Маленький прыткий ящер учился не повторять ошибок.
Перед глазами плыло. Больше не могу, подумал Пескавин. Кривясь от рези в боку, он остановился и тяжело сел на снег. Все. Побегали – хватит. Теперь думать. Он с трудом отогнал стоящее перед глазами лицо мумии и белый шрам на боку под прижатым локтем руки, поддерживающей ребенка. Меня! Маму – резаком! Он закусил губу. Забыть бы. Не выйдет, живи теперь с этим всю жизнь, ящер, мучайся, гад.
Сначала он подошел к ней. Так было. Затем он наклонился, еще не видя ее лица и еще не веря. Потом он поверил, поверил вдруг и сразу, еще не успев увидеть, и еще можно было все поправить, если отвернуться и уйти, но на это уже не нашлось сил. Потом он увидел. Он сделал шаг назад – один, другой, третий. Должно быть, их, шагов, было больше, потому что мумия отодвинулась в метель и как-то потускнела, теряя очертания. И тогда он побежал, не видя, куда бежит, потеряв направление и ориентиры, не представляя, в какой части Ущелья находится. Мало приятного заблудиться – но не безнадежно, последнее слово не сказано, еще не поздно уйти, и даже не с пустыми руками. Пескавин знал, что выберется. Он-то выберется, а она… Она останется стоять, вцементированная в снег и покрытая снегом, прижимая к груди ребенка и только на него смотря окаменевшим взглядом. Когда резак с визгом врезался в ее тело, она смотрела на ребенка, и когда ее, кружащуюся в петле троса под вертолетом, тащили к зоне обозрения, она тоже смотрела только на ребенка. Иначе не должно быть. И поэтому в хорошую погоду экскурсантов будут водить смотреть на нее в расчете на их умиление материнским чувством, но никто из них не умилится, потому что все к этому времени устанут и насытятся впечатлениями, а обратно шагать далеко, и вообще не пора ли в отель?.. И тогда они снова зацепят эту мумию и перетащат поближе ко входу в ущелье. Так и будет.
Он поднял голову и вслушался. В снежной пелене кто-то был, и не один, судя по доносившимся обрывкам разговора. Двое. И совсем близко. Пескавин глубже вжался в снег. Это были охранники, две серые фигуры, смутные тени, потерявшиеся в снегопаде. Они двигались быстро, и не вальяжной развалочкой, как обычно, а скорым походным шагом, совсем не характерным для охранников, и Пескавин подумал, что так идти им, должно быть, натужно и непривычно и они злы на начальство, которому неймется, но раз они так спешат, значит, действительно что-то случилось. Или может случиться. В Ущелье случается всякое.
Они прошли мимо шагах в десяти, не заметив. Снег чавкал под их ногами, и Пескавин попытался сквозь чавканье уловить хотя бы одну-две фразы из торопливого, с одышкой, разговора – и не смог: совсем низко, а где – не разобрать из-за эха, с омерзительным всасывающим звуком прошел патрульный флайдарт, явно на телеуправлении в эту погоду. Пескавин зажал уши. «А вот это уже серьезно, – подумал он, провожая взглядом охранников в метель. – Ясней ясного: кто-то опять наследил, кого-то ловят, и этот кто-то – понятное дело, не ломтик. А кто? – Он криво усмехнулся. – Гм, есть тут один человек…»
– Пора уходить, – сказал он вслух.
А мама?
Пескавин встал и снова сел на снег. Под ним таяло и было мокро, но он не замечал сырости. Мама. Он называл ее так, пока не поблекли воспоминания детства, ему не приходило в голову назвать ее про себя иначе, хотя бы матерью, и однажды, еще в колонии, он в кровь избил одного хлыща – хлыщ был на голову выше и сильнее, но он, ища объект для травли и найдя слабое место, позволил себе гнусную шуточку – и следующие десять минут провел очень скверно: Пескавин уже тогда умел драться расчетливо и безжалостно. В конце концов его оставили в покое.
Здесь драться не с кем. Здесь нужно думать, очень много думать. И мало быть просто умным, иначе без толку разведешь руками и утешишь себя мыслью, что против ветра не плюют. Разве что случай, везение? Столько везения не бывает, негде достать. Изволь сначала доказать, что эти люди почти живы. И кому? Администрации заповедника? Пескавин зашипел сквозь стиснутые зубы. Этой мрази ничего доказывать не нужно, сами прекрасно знают, недаром институт отгрохали, вместо ответа просто наведут справки – и привет. Гостеприимны, улыбчиво скалятся и даже почти согласны, что выставка мертвецов – это немного аморально, ну и что с того? А туристский бум, а отели, а лучшее на Тверди обслуживание, гордость Системы Общественного Блага? А то, что признаков обмена веществ у мумий не обнаружено? Эксперты из института опровергнут что угодно, тоже ведь живы не святым духом. Падаль. Положим, с музеем живых людей, пусть окаменевших, но живых, они оскандалятся, шум будет немалый, и с первого взгляда кажется, что здесь у них слабина, но это только с первого взгляда. Ткнуть их носом в регенерировавший палец? И что? А вы, простите, специалист? Эксперт? Кристаллы ведь тоже растут. Растут, должно быть, и горы закрытых материалов в сейфах института, растет охрана. Пескавин выпрямился. Он вдруг понял то, до чего не мог додуматься раньше: охрану начали усиливать тогда и только тогда, когда выяснилось, что мумии регенерируют… Нет, шума не будет.