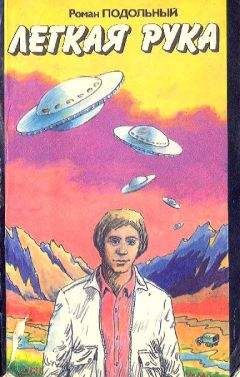— Интересная формулировка. Я бы даже сказал — интересная до очевидности. Вы ведь на третьем курсе, молодой человек? Ну конечно же, да, на третьем. Дайте-ка я на вас посмотрю… В артисты вы вряд ли годитесь. Ну да что-нибудь придумаем. Приходите-ка завтра, молодой человек, ко мне, на студию.
…Прошло полгода. Стоял сентябрь.
— Илюша, — мягко сказал Великий режиссер, — поработай, дружок, еще над этим сценарием, реши окончательно, будем мы его ставить или нет.
— Хорошо, Василий Васильевич.
— Я тебе говорил уже, что это обращение слишком длинно для рабочей обстановки, Василий, поверь мне, будет звучать столь же уважительно.
Год начался для меня великолепно. Я теперь был не просто студентом четвертого курса. Мое имя появилось в титрах первой картины. Пока оно стояло после скромного титула “ассистент режиссера”, но я был большим — личным секретарем, ближайшим помощником, тем, кого в XVIII веке называли наперсником. Я не смог стать талантом. Я сумел стать таланту необходимым. Вторым — рядом с Первым.
— Как это будет великолепно, — задумчиво сказал шеф. — Бесчисленные языки пламени, и среди них, из них — живое существо. Прекрасно.
— Значит, вы поверили в мою идею? — напряженно ждал ответа человек, сидевший за столом напротив него.
— Поверил? — с величественной иронией Василий Васильевич покачал своей огромной головой. — При чем здесь вера или неверие? Я сниму фильм про вашу идею.
— Но если не верите, то зачем вам этот фильм?
— Его интересно снимать.
— Хорошо же. Я покажу вам фотографии, которые никому не показывал. Пока. Боялся. — Гость лихорадочно расстегивал застежки портфеля, бормоча: — Я просмотрел тысячи, десятки тысяч снимков. Огонь часто снимают. Костры, печи, камины, пожары… Есть и любители фотографировать огонь. У одного оказалась тысяча триста снимков. Сейчас он за меня. И пять его снимков со мной. И еще шесть снимков других фотографов — наиболее убедительные.
Я не мог оставаться на своем диване, с книжкой. Бросил ее, подсел к столу.
Фотографии были цветные и черно-белые, хорошие и неудавшиеся. Но на всех них отчетливо выступало среди языков пламени существо, больше всего похожее на ящерицу, узкую и стремительную.
— А сколько фотографий у меня есть еще! — возбужденно говорил гость. — Но эти все-таки самые лучшие, — великодушно сознался он.
Впрочем, оглядев нас, он понял, что даже самые громкие слова могут только испортить впечатление, и откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Я следил за ним краем глаза. Сейчас с широченного лобастого и щекастого лица этого человека слетело недавнее болезненное выражение. Ему поверили — пусть на секунду, и б льшего сейчас ему не нужно было.
А фотографии интересные. Правда, у меня был знакомый, который еще в восьмом классе дюжинами изготовлял очень доказательные фото летающих тарелочек. По-видимому, у Василия Васильевича тоже был такой знакомый, потому что Великий режиссер вздохнул, стряхивая с себя обаяние снимков, и чуть грубовато спросил:
— А живую отловить не удалось?
И тут мне стало ясно, что Кирилл Евстафьевич Ланитов, кандидат исторических наук (как он представился при знакомстве), не так-то прост. Потому что он не обиделся на явно неуместный вопрос и не ответил браво: ничего, отловим еще. Нет, он добродушно засмеялся и сказал:
— Вот так все спрашивают. Просто смешно. Представьте себе, что у Дарвина (я сравниваю не себя с ним, а суть дела), так вот, представьте себе, что у Дарвина потребовали бы предъявить в натуре промежуточное звено. Нет-нет, в науке, к сожалению, так уж гладко все не бывает. Один высказывает идею, другой обосновывает, третий доказывает фактами. Но я уверен, если вы мне поможете, мы найдем саламандру.
Я встал и снял с книжной полки том Алексея Толстого, открыл, прочел:
“Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью… У некоторого человека в аптеке — саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово такоф как пишут: саламандра — зверь — живет в огне…” Толстой ввел в текст точную выписку из петровского письма. Как вам это нравится?
— Да, — кивнул головой Кирилл Евстафьевич, — я полагаю, что Петру I показывали именно огненную саламандру.
— Но тогда… тогда ее можно найти. Либава — это наша Лиепая. Надо запросить латвийские музеи.
— Прекрасная идея, — оживился Ланитов. — Я сделаю запрос… Но должен сразу сказать, что если та либавская саламандра окажется обыкновенной лягушкиной родственницей, это меня не собьет. Вот, для примера, верите вы в снежного человека? — обратился он сразу к нам обоим.
— Мое отношение к слову “верить” вы уже знаете, — снисходительно усмехнулся Василий Васильевич. — Но там пока нечего снимать, а инсценировки будут малоэффектны, и это меня не интересует.
— Ну почему? Тут можно придумать, что снять, но этот сюжет не для Василия Васильевича, — сказал я.
Видимо, Ланитов ждал других ответов. Но не стал из-за этого отказываться от заготовленной фразы:
— Свидетельства о реальном существовании саламандры не менее убедительны, чем доказательства реальности снежного человека. Бенвенуто Челлини рассказывает… — Ланитов полез в портфель, начал рыться там среди бумажек.
— Не трудитесь, молодой человек, — снисходительно сказал Василий Васильевич, — я знаю на память “Жизнь Бенвенуто Челлини, рассказанную им самим”, Вы имеете в виду это место?
И он, прикрыв глаза, стал читать наизусть.
“Когда мне было лет около пяти и отец мой однажды сидел в одном нашем подвальчике, в каковом учинили стирку, и остались ярко гореть дубовые дрова… глядя в огонь, он вдруг увидел посреди наиболее жаркого пламени маленького зверька вроде ящерицы, каковой резвился в этом наиболее сильном пламени. Сразу поняв, что это такое, он велел позвать мою сестренку и меня и, показав его нам, малышам, дал мне великую затрещину, от каковой я весьма отчаянно принялся плакать. Он, ласково меня успокоив, сказал мне так: “Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, чтобы ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это — саламандра”… И он меня поцеловал и дал мне несколько кватрино”.
Ланитов явно расстроился, а зря. Подавив человека эрудицией, Василий Васильевич мягчал душой и максимально к нему располагался.
Лишь минуты через две Кирилл Евстафьевич снова вошел во вкус рассказа о своих возлюбленных саламандрах.
— Я утверждаю, что на земле продолжают существовать следы кремнийорганической жизни, возникшей в ту пору, когда рядом с расплавленным шаром Солнца плавал расплавленный шар Земли. С остыванием пламени погибла эта форма живого. Некоторые ученые видят в обыкновенной глине ее кладбища. Так каменный уголь — кладбище Древних папоротников. Но, во всяком случае, один вид древнейших существ сумел приспособиться к новым условиям на охладевшей планете. Здесь ведь продолжали существовать горячие точки — вулканы, а с появлением растительности стали случаться пожары. Но подлинным подарком вымирающему животному стали костры наших предков. Вечный, неумирающий огонь с ровной температурой был спасением для крошечного животного. Оно снова завоевало всю планету — вместе с нашими предками. Оно, быть может, играло с детьми неандертальцев, дразнило их, высовывая из пламени хвост и мордочку. В течение многих тысяч лет, пока огонь передавался от одного очага к другому, саламандра процветала. Ведь еще в конце XIX века в Белоруссии, скажем, одну печку разжигали жаром из другой, и с новым огнем в старый пепел переходили семена кремнийорганической жизни.