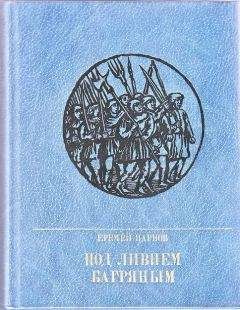А что такое опиум? Лекарство это, обезболивающее. От нестерпимой душевной боли, от которой порой умирают.
И мотался ненастными осенними ночами о. Савва по бескрайним малорусским степям, терпеливо исповедуя да причащая умирающих, радостно венчал и крестил, сокрушенно отпускал чужие грехи, даруя с Божьей помощью желанный покой исстрадавшимся людским душам.
Его же страданий не видно было никому…
Как там у Некрасова, помните ли? «Ценой, которою священство покупается…»
А что за цена-то? Обычная. Хочешь, семинарист, сан принять? Тогда как можно быстрее, брат бурсак, женись, а нет, так принимай монашеский постриг. Будешь иеромонахом, черным духовенством.
Но матушка Саввы так хотела внучат…
Вот и поехал бурсак Саввушка со други своя, иными семинарскими выпускниками, на смотрины юных епархиалок, похожих друг на дружку, как матрешки: этакие все, как одна, румяные, щекастые да тугие, как налитые соком малороссийские вишенки — ущипни, так спелым соком брызнет!
Просто глаза разбегаются… И быть бы Охломеенко женатому на одной из этих аппетитных малороссийских Оксан, которые к сорока годам чудесным образом превращаются в горластых разбитных теток, которым похрену, на котором боку у тебя сегодня епатрахиль («Ежели у меня епатрахиль на левом боку, то, учти, матушка, грозен я ныне… — А ежели у меня сегодня руки в бок, то мне похрен, батюшка, на каком боку у тебя сегодня епатрахиль!»), но увы! по семинарской привычке забежал он за сарай, чтобы выкурить в кулак самокрутку, свернутую из оторванного кусочка «Епархиальных ведомостей» да набитую ядреным хуторским самосадом…
И увидал там, в уголочке, горько рыдавшую страшную, как карамора, ужасно нескладную голенастую девицу, крепко прижимавшую к своей тощей груди Похвальный Лист с золотыми буквами, насквозь промокший от горьких девичьих слез… Ну, доказала всем, что не дура, а дальше что? Кому она такая нужна?
«Что же? — подумал добрый Савва, — морда у неё верно, что овечкина, да ведь душа-то человечкина? (так в тексте) Не пропадать же ей, в самом-то деле?»
Да взял и женился на бесприданнице, круглой сироте Нениле.
Да и как бы не шибко прогадал. Женой она оказалась очень хорошей: колотила Савву не чаще двух раз в седьмицу. И каждый раз не просто из злобы, но токмо исключительно по делу. («Почто, долгогривый, ты опять бесплатно венчаешь? Ну, я еще понимаю, отпевание усопшего… Грех иной раз с сирот и деньги-то брать. Но свадьба?! На бутылку у них, иродов, всегда найдется, а чтобы попу заплатить, так нет?!»)
Жалко только, что не дал им Господь своих детишек — базедова болезнь какая-то у Ненилы Васильевны обнаружилась. Откуда же стал о. Савва многодетным отцом? Господь ему деток послал.
Революция да Гражданская война обильно плодила все новых да новых сирот… Однако же, сам-семь жить было довольно таки напряжно (так в тексте), потому как чада кушать хотели с пугающей регулярностью. Да и одеть-обуть ребятишек надо, не все им «голым попом» по улицам сверкать.
Так что за подвернувшуюся вакансию Наркомпроса о. Савва ухватился обеими руками, да как на грех… Прямо с утра не заладилось!
Сначала младшенькая, протягивая ему на вытянутых ручонках миску с кашей («Посалуй (так в тексте), батюска!») опрокинула её себе на голову. Отмыв и успокоив девочку, о. Савва уловил запах паленого, но было поздно: старшая дочка, вознамерившаяся было без спросу погладить батюшкины единственные штучные, довоенные брюки, прожгла их на неудобносказуемом месте. Успокоив и вытерев слезы белокурому старшему ребенку, о. Савва извлек из кипящего борща резиновый мячик, который туда для навару положил средний сынок, тоже блондин. Наконец, всех умыв-накормив-обласкав, о. Савва уже положительно направился на службу, как во дворе увидал девчушку, рыдавшую в три ручья. Выяснив, что её беленького котеночка злые уличные мальчишки швырнули в дворовую выгребную яму, о. Савва полез киску из назема вытаскивать, да оступился и провалился в зловонную жижу мало не по чресла…
Батюшка так расстроился (не из-за себя! А вдруг на службу опоздает? Вот матушка Ненила рассердится да ему тогда задаст перцу… А ей с её давлением волноваться вредно!) что у него аж сердце прихватило, не вздохнуть… Не вздохнуть, не охнуть… Аж в глазах потемнело!
«От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»
Глава вторая
Странная компания
1.
Баюкая ноющую, как больной зуб, замотанную в белоснежный бинт и заботливо подвешенную на такой же марлевой косынке, перекинутой через шею, Натка, как голодная тигра в Зоосаде, свирепо сверкая глазами, прохаживалась взад и вперед по бесконечно-длинному Наркомпросовскому коридору, увешанному идеологически выверенными педологическими плакатами, вроде «Ребенок это не сосуд, который нужно до краев наполнить бесполезными и бессмысленными буржуазными знаниями, а факел, который нужно зажечь своей пламенной любовью к коммунизму! Н.К. Крупская».
Единственное, что её отличало от дикой кошки, было то, что Натка в ярости не хлестала себя по бокам полосатым хвостом, за отсутствием такового.
Предплечье девушки тупо ныло и временами там что-то дергало: хирург, на живую нитку, без обезболивания, шившая Натке рану, с сомнением все качала ученой своей головой, брюзгливо отпуская сквозь потемневшие от никотина зубы непонятные, но, как видно совершенно нецензурные словосочетания, типа «нервус улнарис»… Это Натка-то нервус? Да у неё нервы комсомольские, ровно как стальные канаты!
Руку дернуло еще разок, будто от запястья до плеча мгновенно проскочила короткая, но ослепительная молния резкой боли.
Натка зашипела сквозь зубы: вот засранец малолетний! Испортил-таки ей начало первого в её жизни трудового дня. Ну, правда, не совсем так уж и первого… в Наркомпросе, точно, первого.
Одно хорошо: в приемном покое участливая медсестра, пока штопали самоё Натку, замыла ей холодной водой пятна крови на платье и заштопала порезанный рукав.
А то хоть на улицу не выходи: и платье грязное, и глаз подбит, и ноги разные… В смысле, на левой ноге Натки был белый прогулочный брезентовый тапочек, аккуратно вычищенный зубным порошком, а на правой — такой же брезентовый, но уже парадно-выходной черный, так же аккуратно зачерненный печной сажей. Спасибо Арчибальду Арчибальдовичу, храппаидолу. Вывел её из себя так, что Натка сунула ноги, не посмотрев, во что именно. А так как на ощупь тапочки были абсолютно единого фасона, то она враз и не почувствовала. А потом уж было поздно.