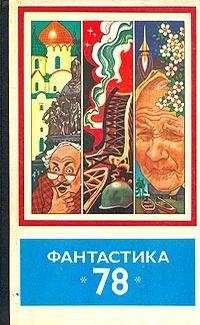Я понимаю, что в процессе борьбы за существование жизнь встает перед видом, как один большой собачник, и тут разум делается существенным фактором, но коль скоро вы, люди, уже обрели его и даже вывели нас, догов, то зачем теперь разум нам? Для каких целей? От каких собачников спасаться? Ведь иных собачников, кроме людей, нет на этой планете, но, по крайней мере, с догами у вас мир, а если бы и нет, то разве поможет нам наш молодой разум, да еще задавленный тысячелетним предрассудком повиновения Человеку? И мне стало ясно, что собаке разум не нужен. И сейчас же я понял, почему заговорил, — помнишь, ты все допытывался, а я не мог ответить? А между тем ответ содержался в первой же моей фразе: «Буду писать, раз ты хочешь». В том-то все и дело! И как же долго я не мог понять, что тебе это действительно необходимо, чтобы понимать меня — я-то ни в каких словах не нуждался, ты всегда был для меня открытым и ясным, я постоянно видел все твои желания и намерения, а подозревал, что ты видишь меня насквозь. И пусть при этом ты часто вел себя так, как если бы совершенно меня не понимал, — на то твоя господская воля, считал я, не считал то есть, чувствовал, переживал, назови еще как-нибудь, не знаю, в общем, жил так, и все. Как же мне было тяжело признать вдруг, что божество нуждается в каких-то значках для того, чтобы что-то понимать! Как же долго я не мог примириться с этой мыслью, и как сильно я тебя этим, должно быть, мучил!
И тут ты уехал на дачу, и я понял, что не мне судить, а следует делать то, что требуется от меня, и слова стали выплывать откуда-то огромными пачками, я ведь всю жизнь провел в мире слов, слышал их постоянно, и теперь смысл каждого был мне понятен и ясен, я мог попробовать каждое на язык и на нос, представить написанным и произнесенным, мог вертеть, как хотел, ими и не заметил за этим, как прошла неделя и ты вернулся. Услыхав, как ты поворачиваешь в замке ключ… А впрочем, не стоит об этом, главное ты уже знаешь — собаке нужна пресловутая вторая сигнальная, как щуке зонтик, и если вы, люди, действительно решите заняться Собачьим Пробуждением — а насколько я вас знаю, вы, раз начав что-то, ни за что не остановитесь, пока не дойдете до конца, каким бы он ни был, — так вот, если вы решите заняться Собачьим Пробуждением, помните — только из любви к хозяину собака способна заговорить. Других стимулов у нее нет, и нечего тыкать ей в нос колбасой с диким воплем: «Еда!»
Но методика — дело десятое. Если бы на этом свете были только мы с тобой и если бы на нас все кончалось, я бы просто плюнул на все, ни о чем не стал бы беспокоиться и только проявил побольше настойчивости в деле удовлетворения моих духовных и матпотребностей. Но на нас ничего не кончается, а для нас, собак, — с меня все только начинается, и тут я испытываю нечто странное. Разум, казалось бы, самое непогрешимое, что есть во мне, подсказывает мне, что мне нечего заботиться об отношении ко мне последующих поколений, что с моей смертью все для меня кончится и абсолютно все равно, станут ли потом собаки поклоняться моей памяти или, напротив, всякая шавка станет стыдить детей моим именем, а то и хуже: ни одна шавка обо мне просто не вспомнит. И вот, казалось бы, что мне до этого, но я знаю: за тех, кто будет после меня, я отвечаю потому, что я первый. Это я знаю не разумом, хоть без него и не смог бы этого осознать, но без него и проблемы бы не возникло!
И я говорю тебе, я, единственный представитель вида, которому нет и года, говорю тебе, одному из представителей вида, которому миллион лет, — так нельзя.
Вы так привыкли к своей разумности, что ничего, кроме нее, стараетесь в себе не замечать — как же, это ведь то, что отличает вас от животных! Как будто не быть животным само по себе достоинство. Но я вас понимаю: разум — это и вправду здорово, есть от чего закружиться голове и есть от чего потерять ориентацию. Разум, как и всякое иное средство, стремится к переоценке своих достоинств, но способов для этого у него гораздо больше, чем у любой другой составляющей человека, и в результате вы даже в определение вида своего внесли слово: «разумный», как будто каждый из вас не бывает большую часть своей жизни неразумным хуже любой кобылы!
В конце концов, и этим знанием я обязан тебе: ты помнишь нашу беседу о Зине?
«Женюсь я на ней, должно быть…» — сказал ты, и я пришел в ужас — не потому, что она не нравится мне, не потому, что она курит в моем присутствии и на все отвечает: «Еще чего!» и «Что ты мне лапшу на уши вешаешь!». В конце концов, какое мне дело, но ведь и ты не то что любил ее, ты ведь ее терпеть не мог, и вдруг — «женюсь, наверное». В твоих словах не было ни капли разума, а только покорность овцы на бойне, и ты сам это сознавал! Ведь это ты тогда сказал — ужаса моего ты, к счастью, не заметил, и разглагольствовал устало-спокойно: «Разум дан человеку для совершенно определенных целей, говорил ты, — как орудие камерное, с ограниченной областью приложения, и лучшее, что он может, — это указать самому себе границы своих возможностей. Вот инстинкт продолжения рода значительно сильнее и разуму не подконтролен, вообще говоря. Если бы каждый был волен жениться лишь на той, кого он действительно любит — не скажу даже: любить ту, кого он действительно хочет любить; если бы каждый был волен дожидаться своей принцессы, и каждая — своего принца, две трети браков не заключалось бы, а из остальной трети три четверти заключалось бы дураками, которые ошиблись. И будь человек действительно разумен, как он о себе мнит, — так ты сказал! — он бы давно вымер, чего не наблюдается. И в сущности, если бы это не было общим признаком всего живого, то следовало бы говорить не «человек разумный», а «человек размножающийся». А с кем размножаться — с Зиной или не с Зиной, — какая разница? Ибо разум на то и есть в конце концов, чтобы сказать: никаких принцесс нет!»
Вот такую тираду ты выдал, и тут же тебе позвонил кто-то, предложил какие-то диски, не то какие-то костюмы, и ты помчался покупать, покупать, как и все остальное время с весны.
Оставшись один, я решил при первой же встрече с Зиной попробовать на прочность ее визгливую глотку — не насмерть, а чтобы отучить ходить сюда, но еще до встречи я понял, что всех не отучишь, да и ты, как по заказу, с Зиной порвал, но только потому, что появилась Рая.
Эту душить было не за что. Эта не говорит про лапшу на ушах и не курит при мне, вернее, вовсе не курит, и единственная ее вина — это что ты ее опять-таки не любишь, но не ее же за это душить!
И в конце концов, не в принцессах дело, понял я, а в том, что ты гибнешь. И причина лежит на поверхности — деньги Якова. Их слишком много, а деньги это прежде всего сила, энергия, и вот тебе дали в руки огромную кучу энергии, а ты, как ребенок, не способен удержать ее в своих руках и не способен ею управлять, но еще меньше способен от нее отказаться! И ты брызгаешь ею во все стороны, и к тебе липнет всякая дрянь, стремясь урвать свой кусочек, и при этом так легко поверить, что все равно все в порядке и разве страшны похмелья тому, чей дом набит французским коньяком?