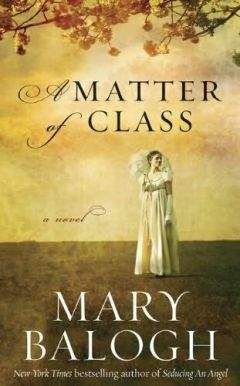– Где сейчас Вайолет? – спросил я.
– Разговаривает с Генри Буццо. Пытается убедить его поехать с ней в больницу.
– Хорошая мысль.
Поглощенный мыслями о хитросплетениях заговора «умеренных», я почти забыл, что Буццо тоже в опасности – и Мосала подвергается риску с двух сторон. Экстремисты уже одержали победу в Киото, и тот, кто заразил меня холерой по пути из Сиднея, сейчас, возможно, в Безгосударстве, выискивает способ исправить первую неудачную попытку.
– Я немедленно прокручу им запись нашего разговора, – обещала де Гроот.
– И отправьте копию в службу безопасности.
– Правильно. Если от этого будет какой-нибудь толк, – Под натиском обстоятельств держалась она, похоже, куда лучше меня, – Элен У в ластах пока не видать, – добавила де Гроот с мрачной иронией, – Но я буду держать вас в курсе.
Мы договорились встретиться в больнице. Я дал отбой и закрыл глаза, борясь с искушением нырнуть обратно в тягучий опийный туман.
Даже когда аэропорт был открыт, антропокосмологам-ортодоксам, чтобы контрабандой провезти лекарство для меня, потребовалось пять дней. Трудно было смириться с мыслью, что Мосала – ходячий труп, но, если не произойдет что-нибудь невероятное, если африканские технолибераторы не десантируются сюда с другой половины земного шара завтра, самое позднее – послезавтра и не доставят лекарство, ей не выжить. Никакой надежды.
Судно приближалось к северной бухте. Я сел и взглянул на Акили. Безумно хотелось взять эту тонкую, юную руку; но нет, только хуже сделаю. И угораздило же втрескаться в существо, которое нарочно хирургически удалило у себя все, способное рождать желание!
Впрочем, очень просто: вместе испытали такие встряски, столько на нас свалилось, а еще это сбивающее с толку отсутствие признаков пола… ничего загадочного. Люди сплошь и рядом теряют головы из-за асексуалов. Конечно же, это пройдет, скоро пройдет – как только прочувствую до конца, что взаимности мне не видать.
Посидев так еще немного, я понял, что больше не в силах смотреть на лицо Акили: слишком больно. И я принялся рассматривать мерцающие линии на мониторе у кровати, прислушиваться к каждому неглубокому вздоху и гадать, почему не отступает терзающая меня боль.
Трамваи, по слухам, еще ходили, но одна фермерша предложила подвезти нас до самого города.
– Быстрее, чем ждать скорой, – объяснила она, – Их на острове всего десяток.
Молоденькая, родом с Фиджи, зовут Адель Вунибобо; помнится, я видел ее на корабле антропокосмологов – она заглядывала в трюм.
Между нами в кабине грузовика сидел(а) Кувале: видно было, что действие наркотика уже ослабело, но еще не совсем прошло. Вокруг тут и там виднелись яркие коралловые протоки – высыхают на глазах, точно просматриваешь в ускоренном режиме процесс медленного уплотнения рифа.
– Там, на корабле, вы рисковали жизнью, – заговорил я.
– Сигнал бедствия в море воспринимается очень серьезно, – Тон чуть насмешливый, будто приглашает отбросить столь церемонные манеры.
– Нам повезло, что мы были не на берегу, – продолжал я, – Но вы ведь видели, что судно вне опасности. Команда велела вам убираться и не соваться не в свое дело. Подкрепив предложение видом пистолетов.
Она ответила любопытным взглядом.
– Так, no-вашему это было опрометчиво? Глупо? Но тут нет полиции. Кто еще пришел бы вам на помощь?
– Никто, – согласился я.
– Пять лет назад наше судно опрокинулось, – Она не отводила глаз от раскинувшегося перед нами изрезанного берега, – Мы попали в шторм. Мои родители, сестра. Родители потеряли сознание, их сразу смыло. Мы с сестрой провели в открытом море десять часов, боролись с волнами, по очереди поддерживали друг друга.
– Ужасно. Парниковые штормы унесли столько жизней…
– Да я не к сочувствию вашему взываю! – простонала она, – Просто пытаюсь объяснить.
Я молча ждал. Немного погодя она заговорила снова:
– Десять часов. До сих пор снится. Я выросла на корабле, своими глазами видела, как штормом смывает целые деревни. Думала, в точности знаю, как относиться к океану. Но тот случай, в воде, с сестрой, изменил все.
– В какую сторону? Теперь океан сильнее страшит вас? Внушает больше благоговения?
Вунибобо нетерпеливо тряхнула головой.
– Нет, требует больше спасательных жилетов. Только я не об этом, – Она состроила недовольную гримаску, но продолжала: – Можете выполнить мою просьбу? Закройте глаза и попытайтесь представить себе мир. Все десять миллиардов людей разом. Я знаю, это невозможно – но все же попробуйте.
Просьба сбила меня с толку, но я подчинился.
– Ладно.
– Теперь опишите, что вы видите.
– Вид Земли из космоса. Хотя больше похоже на рисунок, чем на фотоснимок. Вверху север. В середине – Индийский океан, но глаз охватывает Землю от Западной Африки до Новой Зеландии, от Ирландии до Японии. На всех континентах и островах – вне масштаба – толпы народа. Сосчитать не просите, но всего, по-моему, около сотни.
Я открыл глаза. Ее прежняя и нынешняя родины остались за пределами обрисованной мною карты, но что-то подсказывало, что это не упражнение по расширению географических познаний.
– Когда-то мне тоже мир представлялся таким. Но после крушения все стало по-другому. Закрывая глаза и представляя себе Землю, теперь я вижу ту же карту, те же континенты… Только суша для меня – вовсе не суша. То, что кажется твердой землей, на самом деле – плотная толпа людей; нет никакой суши, негде встать. Все мы – в открытом море, боремся с волнами, поддерживаем друг друга. Так мы рождаемся, так умираем. Изо всех сил стараемся удержать над водой того, кто рядом, – Она рассмеялась, вдруг смутившись, а потом добавила с вызовом: – Вот, вы просили объяснить.
– Просил.
Сверкающие коралловые протоки сменились реками белесой известковой жижи, но рифы вокруг переливались нежно-зеленым и серебристо-серым. Интересно, а что ответили бы остальные фермеры, задай я им тот же вопрос? Наверняка получил бы десяток разных ответов. Безгосударство, судя по всему, основано на принципе, согласно которому люди договорились вести себя совершенно одинаково, руководствуясь при этом совершенно разными мотивами. Как бы сумма взаимно противоречивых топологий из уравнения допространства: общество, не отягощенное политикой, философией, религией, избежавшее бездумно-восторженного поклонения гербам и знаменам – и, тем не менее, упорядоченное.
И все же я никак не мог решить, чудо ли это, или ровным счетом ничего невероятного здесь нет. Упорядоченность возникает и сохраняется там, где этого хотят. Любая демократия при ближайшем рассмотрении оказывается разновидностью анархии: любой законодательный акт, любая конституция могут быть со временем изменены; любой социальной нормой, писаной или неписаной, можно пренебречь. Главные сдерживающие силы – инерция, апатия и недомыслие. В Безгосударстве же осмелились – быть может, безрассудно – распутать политический узел до конца, дабы увидеть как есть, без прикрас, власть и ответственность, терпимость и согласие.