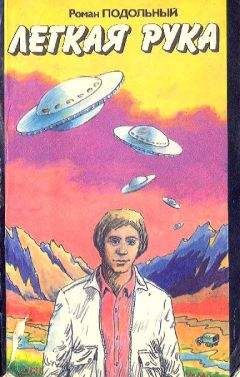— Едут в электричке колхозник и художник, — начал в тот вечер Куртенев, заранее посмеиваясь. — Колхозник говорит: “Что, теперь Никита Сергеевич за вас взялся?” — “Да”, — соглашается художник. — “Ну, в вашем-то деле он хоть понимает”.
Анекдоты о Хрущеве рассказывали все. Но — самые разные. И очень по-разному. Мы с Гвидоном до сих пор принадлежали к тем, кто делал это добродушно, — слишком многое нравилось нам в этом неугомонном человеке. Но сейчас в голосе моего партнера звучала откровенная злость. Я испугался, хотя разделял его отношение и к последним сельскохозяйственным новшествам, и к поучениям, изливавшимся на художников.
Так испугался, что понял: по крайней мере один человек принял письмо Гюи Куртене, он же Гвидон Николаевич Куртенев, всерьез. Этим человеком был тот, кто письмо обнаружил. Я сам.
Письмо? Может быть, точнее назвать этот документ завещанием, благо Гюи-Гвидону не потребовалось составлять официальное духовное завещание — сын, к которому помещик обращался в письме, был его единственным наследником. Отец хранил документ в запечатанном конверте, предназначая, видимо, к прочтению уже после своей смерти Но, видно, что-то помешало следующему Куртеневу добраться до письма. Печать я сломал собственной рукой, разбирая семейные бумаги Куртеневых, пролежавшие нетронутыми в Барашовском архиве с 1917 года; попали они сюда из разоренной помещичьей усадьбы. Тогдашний ее владелец был далеко, на германском фронте; позднее служил красным военспецем в гражданскую и славно себя показал. А когда вернулся в родные места и стал “советским служащим”, ему, наверное, ни к чему было подчеркивать связь с родовым дворянским гнездом, заявляя претензии на собственность предков, хотя бы и собственность чисто духовного характера.
…Я опять играл невнимательно, Гвидон сердился, смешал после особенно идиотского моего промаха шахматы, поставил на стол чашки, разлил чай, рассказал еще один анекдот, его уже я и не помню, а потом пустился в повествование о своей последней, совсем не шахматной, победе — над директором института. Куртенева, а не директора, поддержало общее партийное собрание, а ведь Гвидон долго не решался выступить; хоть дело было правое, но в провинции начальник есть начальник, даже если — и особенно — он не прав; в провинции, а тем более в городе, где вузовскому преподавателю пединститута и работать больше негде.
Он был ужасно доволен и стал вспоминать другие подобные истории — немного, по пальцам пересчитаешь, но такие были, — когда вставал за справедливость, и оказывалось, что другие так же думают, что все — как он, или он — как все, надо только решиться… Гвидон просил меня не заподозрить его в хвастовстве, но вот, честное слово, он чувствовал в пятьдесят третьем, хоть и не знал практически ничего точно, что нельзя Берии доверять, что гад он, и твердо верил, что Лаврентия Палыча скинут. Мистика это, может быть, но бывают у него верные предчувствия и нетщетные ожидания… в области Большой Политики…
Впервые Гвидон так разоткровенничался, и я бы, наверно, только поддакивал да рассказывал в ответ о собственных верных предчувствиях и удачных предвидениях — у кого же их не бывает? Да и запоминаем мы, известно, только те предсказания, что сбываются… И оберегаем воспоминания, при которых маслом по сердцу. Вон как я сам горжусь позапрошлогодней историей с горкомовским секретарем по идеологии. Не тем горжусь, что восстал против этого невежды, неведомо как занявшего свой пост, а тем, что за мною и директор музея поднялся, и редактор газеты, на что слабый человек, и даже школьные учителя. В такие минуты чувствуешь: значишь ты что-то в мире, стоишь чего-то, важно твое мнение… Но я ведь читал письмо его прапрадеда, читал и помнил почти наизусть, и это делало банальнейший разговор по душам многозначительным до крайности.
Прапрадед моего собеседника, тот Гвидон Николаевич Куртенев (тройной тезка нынешнему) счел нужным изложить в начале письма нечто, сыну его, разумеется, известное. Мол, приехал он, Гюи Куртене, в Россию из Франции в 1816 году. Здесь женился на единственной дочери дворянина Веденеева, что владел поместьицем Ольховкой под Барашовом. Позже это поместьице унаследовал, получив, по снисходительности губернских властей и из уважения к его ордену Почетного легиона, полные дворянские права. Столько в округе Ольховок разных было, что при какой-то очередной ревизии для удобства переименовали его деревеньку в Куртеневку. Сие, конечно, — добавлял первый Куртенев, — сыну, ведомо, но из песни слова не выкинешь, по русской пословице, и лучше показаться болтуном, чем промолчать о важном, по пословице французской, может быть и иронической. В конце концов, ему, Гюи, приятно вспомнить жену и ее добрых стариков, они, впрочем, не старше были и зятя, только вот умерли рано, бедняги. Но это все старческая болтовня, а вот сейчас пойдет речь о другом: почему парижанин решился покинуть любимую родину, а этого и покойная Маша не знала. Между тем имел он, Куртене, достаточные основания. А именно: в ночь накануне сражения при Ватерлоо, которое во Франции называют сражением при Мон-Сен-Жан…
Батальон, в котором служил Гюи, подошел к назначенному предварительной диспозицией месту поздним вечером. Кое-как поужинали у костров и улеглись по походному распорядку спать — те, кто мог заснуть. Хорошо юным новобранцам, а вот к сорокалетнему человеку сон не всегда приходит и после изнурительного перехода. Ночь, хоть и июньская, выдалась прохладной. Гюи Куртене сидел на подвернувшемся бревнышке, глядя бездумно в огонь, и тут из темноты вышел к костру высокий носатый старик в серой шляпе и сером плаще, с короткой и широкой, немодной по тем временам бородкой.
Непорядок это, когда штатский появляется на биваке, он ведь может оказаться и шпионом. Но как тут соблюдать порядок, когда у императора все меньше удачи и солдат, а у солдат все меньше веры в императора. Отвести старика к капитану? Но тот спит, и слава богу, Гюи может лишь позавидовать. В конце концов, старый солдат и сам в силах последить за странным гостем.
— Садитесь, сударь, — сказал Куртене, подвигаясь на своем бревнышке.
— Благодарю, сержант. Разрешите осведомиться, как вас зовут?
— Гюи Куртене, парижанин.
— Вас я и искал. Знаете ли вы, сударь, что от вас зависит все, что произойдет в ближайшие годы с Францией и Европой?
— Не путаете ли вы меня с императором? — хмуро ответил Гюи. Он мог бы обидеться, но в голосе старика не было и тени насмешки, а лицо ночного гостя оставалось безукоризненно серьезным.
— Нет, не путаю. Император бессилен теперь что-нибудь сделать. Маятник его судьбы качнулся не в ту сторону. Вы сильнее императора. Но могущественнее вы не одного лишь Наполеона. И герцог Веллингтон, и прусский король, и русский царь, и император Австрии — все они значат на весах истории меньше, чем вы, мсье Куртене. О, не обижайтесь и не думайте, что я шучу, дорогой Гюи. Позволю себе просить вас кое-что припомнить. Что вы делали 14 июля 1789 года?