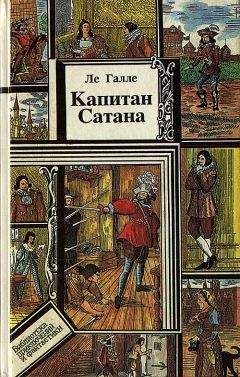— Не только для тебя, — многозначительно произнес Спадавелли.
Томмазо поднял настороженный взгляд, представив себе, каков был его учитель-доминиканец пятьдесят лет назад.
Тот предостерегающе поднял руку.
— Да, да! Я относился к тебе как к сыну, боготворя твою мать, воплощавшую на земле ангела небесного. Но не смей подумать греховного! Память ее и для меня и для тебя священна! И не нарушен мой обет безбрачия, данный богу. Однако, угадав в тебе вулкан, готовый к извержению, невольно сам же пробудив в тебе готовность встать на бой с всеобщим злом, я, каюсь, испугался и хотел спасти тебя любой ценой, об этом же молила меня и твоя мать.
— Спасти?
— Конечно, так! В своей наивности неискушенного доминиканца я слишком полагался на высоту монастырских стен, стремясь укрыть за ними твой мятущийся неистовый дух, ибо любил тебя, быть может, даже больше, чем твой собственный отец.
— Укрыть меня в монастыре? Но разве это получилось?
— Конечно, нет! Нельзя в темнице спрятать Солнце!
— Вы верите, учитель, в мой факел, зажженный светилом?
— В твой «Город Солнца»? Тогда скажи мне прежде, что ты хотел в нем сказать?
— Учитель, позвольте мне прочесть сонет о сущности всех зол. Он вам ответит лучше, чем я мог бы сам сейчас придумать.
— Твои стихи я ценил еще в твоем детстве. Я выслушаю их и сейчас со вниманием.
Томмазо встал, оперся рукой о стол, глядя на пробивающийся через зарешеченное окно солнечный луч, и прочел:
— Сонет VIII — «О сущности всех зол».
Я в мир пришел порок развеять в прах.
Яд себялюбья всех змеиных злее.
Я знаю край, где Зло ступить не смеет.
Где Мощь, Любовь и Разум сменят Страх.
Пусть зреет мысль философов в умах.
Пусть Истина людьми так овладеет, Чтоб не осталось на Земле злодеев И ждал их полный неизбежный крах.
Мор, голод, войны, алчность, суеверье, Блуд, роскошь, подлость судей, произвол — Невежества отвратные то перья.
Пусть безоружен, слаб и даже гол, Но против мрака восстаю теперь я; Власть Зла сразить Мечтой я в мир пришел!
Кардинал низко опустил голову, задумался, потом обратился к узнику:
— Стихи твои, Томмазо, умом и сердцем раскалены. Но разве святая католическая церковь не борется со злом?
— Бороться с ним, монсиньор, мало, замаливая и отпуская грехи. Надобно устранять причины зла.
— Не те ли, что ты изложил в твоем трактате «Город Солнца»?
— Я рад, учитель, что эти мои мысли знакомы вам.
— Тогда побеседуем о них. Начнем с мелочей.
— Истина не знает мелочей, учитель мой. Я с детства запомнил эти ваши слова.
— Джованни, мой Джованни! Твои воспоминания волнуют меня. Но «Город Солнца» написан уже не Джованни, а Томмазо.
— Томмазо Кампанеллой, помнящим заветы недавнего мученика Томаса Мора, монсиньор.
— Причислен он к святым и почитаем церковью. Итак, начнем хотя бы с места, где ты поместил свой Город Солнца. Оно ведь неудобное. У экватора еще ни один народ не достиг расцвета.
— Я думаю, учитель, что культура не расцветала там не оттого, что солнце в полдень жжет над головой, а потому, что неустраненные причины зла позволяли множиться порокам.
— Все это так, но разве не лучше поставить твой город у моря при впадении рек, чтобы удобнее было сообщаться со всем миром? Купцы, торговля издревле способствовали распространению знаний.
— Мой Город, учитель, строит свою жизнь, не отказываясь от общения с другими народами, но не по их правилам. Выкорчевывая причины всех зол, мои солярии заинтересованы не столько в мореплавании и купле-продаже, не в обогащении при удачной торговле, сколько во всеобщем счастье, когда продаются не чужеземные товары, а каждый житель получает из городских богатств все потребное человеку, который по укоренившейся традиции презирает всякое излишество.
— Но кто же им предложит столько товаров?
— Никто, учитель! Они сделают все сами. Ведь трудиться будут все без исключения: ученый, жрец, ваятель, воин, — все выйдут на поля или в мастерские для ремесел. Ведь если посчитать у нас богатства, которые создаются людьми низших сословий, но принадлежащие по праву собственности людям сильным, знатным и богатым, что тратят их на роскошь, пресыщение и войны, и если представить, что эти богатства распределены между всеми, то окажется, что бедных-то и нет совсем! И не от заморских купцов будет счастье у соляриев, а от их собственного труда.
— Труд труду рознь. Всегда найдется работа черная и неприятная для всех, и для невежд и для мудрецов.
— Ее будут выполнять те, кто преступил устав.
— Устав? Ты хочешь всех согнать в единый монастырь?
— По монастырскому уставу жили общины первых христиан, учитель.
— Но как же ты хочешь создать Город с новым укладом, когда не было в истории человечества таких примеров? Безгрешной общины быть не может. Апостол Павел говорил: «Если мы думаем, что не имеем греха, то обманываем самих себя».
— Пусть не было таких уставов в жизни, но это не значит, что их не может быть! Люди не знали о существовании Америки, веря самому святому Августину, считали, что нет ее за океаном. Мореход Колумб из Генуи открыл и новые земли, и глаза людям. Точно так же нельзя отрицать возможность создания «Города Солнца», города без частной собственности.
— Томмазо, ты замахнулся на основу основ! Хочешь срубить сук, на коем зиждется всемирный распорядок. В своем стремлении победить бесправие ты готов лишить людей основных их прав.
— Каких прав, учитель? Права собственности? Но ведь она и есть причина главных зол, порождение богатства одних и бедности других, роскоши сильных и нищеты угнетенных, вынужденных трудиться на богатых, а не на себя!
— Не может существовать того, чего не было на свете!
— Почему же не было, учитель мой? Вернемся снова к первым христианам, у которых в общинах все было общим. И апостолы хранили и восхваляли эту общность имущества.
— Но общины исчезли.
— Однако устав их все же остался… в монастырях.
— Ты хочешь, чтобы весь мир стал одним монастырем?
— А почему бы и нет? Если устав хорош для братии, отчего же всем людям не стать братьями?
— В монастыре — обет безбрачия, а в Городе Солнца — кощунственная общность жен! Тому ли я учил тебя?
— Нет, нет, учитель! Мы привыкли во всем видеть собственность: на землю, дом, на корабли, на скот, на жен! Позорны гаремы, где женщина — рабыня, средство наслаждения, жертва похоти, и даже в наш век женщина, увы, становится рабой своего мужа-господина. А я хотел бы видеть женщин во всем равными мужчинам, и «общими» они там будут лишь для свободного выбора из их числа подруг, такими же «общими» для них станут и мужчины-мужья. Откинуть надо в слове «общее» всякое представление о собственности на женщин и мужчин при вступлении их в брак, когда он считается нерасторжимым до самой смерти, что противоестественно, ибо подобный пагубный обычай и порождает такие пороки, как измена, прелюбодеяние, ревность, ложь, коварство, блуд. Виной тому становится угаснувшее чувство любви, заменяемое принуждением, расчетом, выгодой или привычкой, когда жить вместе приходится под одной кровлей уже чужим, а порой и враждебным людям. Соединение пар должно быть свободным и ни в коем случае не быть «продажей тела», как на невольничьем рынке, к тому же скрепленной церковью!