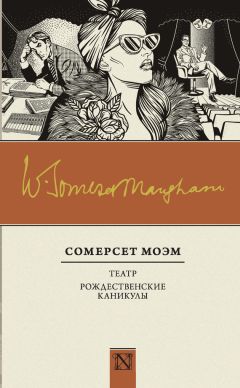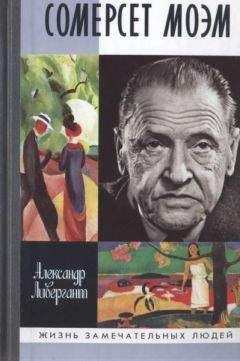«Да что ж это такое? – воскликнула я. – Робер чем-то перепачкал брюки».
Мадам Берже так поспешно вскочила со стула, даже опрокинула картошку. Схватила брюки, глянула на них. И ее стала бить дрожь.
«Интересно, чем он их вымазал, – сказала я. – Робер будет вне себя. Его новый костюм».
Я видела, она огорчилась, но, знаете, французы в некоторых отношениях странные. Какое-нибудь пятно на платье для них событие, не то что для русских. Не знаю, сколько сотен франков Робер заплатил за этот костюм, но если костюм погублен, свекровь целую неделю не сможет спать, все будет думать о зря потраченных деньгах.
«Я отчищу», – сказала я.
«Отнеси Роберу кофе, – резко сказала она. – Уже двенадцатый час, пора ему встать. Брюки оставь мне. Я знаю, что с ними сделать».
Я налила ему чашку кофе и собралась идти наверх, но тут мы услыхали, что он в тапочках сбегает по лестнице. Он кивнул матери и попросил газету.
«Выпей кофе, пока не остыл», – сказала я.
Он пропустил мои слова мимо ушей. Развернул газету и углубился в последние новости.
«Ничего нет», – сказала мать.
Я не поняла, о чем она. Робер пробежал взглядом по колонкам, потом не спеша отхлебнул кофе. Он был непривычно молчалив. Я взяла его пиджак и стала чистить щеткой.
«Ты вчера вечером сильно запачкал брюки, – сказала я. – Придется тебе сегодня надеть синий костюм».
Мадам Берже прежде повесила испачканные брюки на спинку стула. Теперь она их сняла и показала ему пятна. Он с минуту их разглядывал, а она молча за ним наблюдала. Казалось, он не может отвести от них глаз. Я не понимала их молчание. Странное оно было. Мне казалось, они отнеслись к этому пустяковому случаю до смешного трагически. Но конечно, у французов бережливость в крови.
«Дома есть немного бензина, – сказала я. – Им можно вывести пятна. Или отдадим брюки в чистку».
Они не ответили. Робер сидел хмурый, не поднимая глаз. Мать перевернула брюки, наверно, хотела посмотреть, есть ли пятна сзади, а потом нащупала что-то в карманах.
«Что у тебя там?»
Робер вскочил.
«Не трогай. Нечего шарить по моим карманам».
Он попытался вырвать у нее брюки, но прежде она успела сунуть руку в задний карман и достала пачку банкнот. Увидев у нее деньги, Робер замер. Она уронила брюки на пол и со стоном прижала руку к груди, словно ее ударили ножом. Тут я заметила, что оба они бледные как смерть. Меня вдруг осенило, Робер часто мне говорил, что у матери наверняка есть кое-какие сбережения и она прячет их где-то в доме. Последнее время мы отчаянно нуждались. Роберу безумно хотелось поехать на Ривьеру; я там никогда не была, и он неделями твердил, что если б только ему раздобыть немного денег, мы бы туда поехали и наконец-то отпраздновали бы медовый месяц. Понимаете, когда мы поженились, он работал у того маклера и не мог уехать. У меня мелькнула мысль, что он нашел сбережения матери. Я подумала, что он украл их, покраснела до корней волос и, однако, не удивилась. Не зря я прожила с ним полгода, я знала, что ему это покажется забавной проделкой. Я видела у нее в руках билеты по тысяче франков. Потом оказалось их семь. Мать так на него посмотрела, что казалось, глаза у нее выскочат из орбит.
«Где ты их взял, Робер?» – спросила она.
Он ответил смешком, но я видела, он нервничает.
«Я вчера выиграл пари», – ответил он.
«Ох, Робер, – воскликнула я, – ты же обещал маме больше никогда не играть на бегах».
«Тут дело было верное, – сказал он. – Я не мог устоять. Теперь мы сможем поехать на Ривьеру, лапочка. Возьми деньги и сохрани, не то у меня они пролетят между пальцев».
«Нет-нет, не надо ей этих денег! – крикнула мадам Берже. И с таким ужасом посмотрела на Робера, я даже поразилась, потом она повернулась ко мне: – Поди прибери у вас в комнате. Не годится, чтоб комнаты весь день стояли неубранные».
Я поняла, что она не хочет говорить при мне, и подумала, что, если они сейчас станут ссориться, лучше мне и вправду уйти. У невестки положение щекотливое. Мать обожала Робера, но он был легкомысленный, и ее это страшно беспокоило. Время от времени она устраивала сцены. Иногда они запирались в ее флигельке в конце сада и яростно спорили, до меня доносились их голоса. Он выходил оттуда мрачный, раздраженный, а по ней было видно, что она плакала. Я пошла наверх. Потом вернулась, и они тотчас замолчали, и мадам Берже велела мне пойти купить яиц. Робер обычно уходил из дому около полудня и возвращался только вечером, обычно очень поздно, но в тот день он остался дома. Читал, играл на фортепьяно. Я спросила, что у него произошло с матерью, но он не стал рассказывать, сказал, что это не мое дело. Мне кажется, за весь день ни он, ни она не обменялись и десятком слов. Я думала, этому не будет конца. Когда мы легли, я притулилась к Роберу, обняла его за шею, я ведь чувствовала, что он тревожится, и мне хотелось его утешить, но он меня оттолкнул.
«Бога ради, оставь меня в покое, – сказал он. – Мне сегодня не до занятий любовью. У меня другие заботы».
Я была жестоко уязвлена, но ничего не сказала. Только отодвинулась от него. Он понял, что обидел меня, немного погодя протянул руку и чуть коснулся моего лица.
«Усни, лапочка, – сказал он. – Не огорчайся из-за моего дурного настроения. Слишком много я вчера выпил. Завтра я опять стану самим собой».
«Это деньги твоей матери?» – шепотом спросила я.
Он сперва не ответил. Потом наконец сказал – да.
«Ох, Робер, как ты мог?» – воскликнула я.
Он опять ответил не сразу. Мне так было худо. Думала, заплачу. Он сказал:
«Если кто-нибудь о чем-нибудь тебя спросит, ты у меня денег не видела. Ты понятия не имела, что у меня есть деньги».
«Как ты мог подумать, что я тебя предам?» – воскликнула я.
«И еще брюки. Мама не смогла их отчистить. Она их выбросила».
Я вдруг вспомнила, что днем, когда Робер играл на пианино, а я сидела с ним рядом, запахло горелым. Я встала, хотела пойти посмотреть, что там случилось.
«Не ходи», – сказал Робер.
«Но в кухне что-то горит», – сказала я.
«Наверно, мама жжет старое тряпье. Она сегодня встала с левой ноги, если ты вмешаешься, она тебя отругает».
И тут я поняла, что не старые тряпки она жгла; она сжигала брюки, она их не выбросила. Я страшно перепугалась, но ничего не сказала. Робер взял меня за руку.
«Если тебя станут про них спрашивать, – сказал он, – говори, что я их перемазал, когда мыл машину, вот и пришлось их отдать. Позавчера мать отдала их какому-то бродяге. Клянешься?»
«Да», – ответила я, насилу выговорила.
И тут он сказал ужасные слова:
«Может, от этого зависит моя жизнь».
Я до того перепугалась, так была ошеломлена, просто онемела от страха. И голова разболелась, прямо раскалывалась. Мне кажется, я всю ночь не сомкнула глаз. Робер то засыпал, то просыпался. И даже когда спал, беспокойно ворочался с боку на бок. Мы спустились рано, но моя свекровь была уже в кухне. Обычно она была одета очень прилично, а когда выходила из дому, выглядела даже элегантно. Она была вдовой доктора и дочерью штабного офицера; всегда помнила, кто она такая, и старалась, чтоб никто не понял, как жестоко она экономит ради того, чтобы достойно выглядеть, навещая старых армейских друзей. В этих случаях она подвивала волосы, делала маникюр, румянилась, бывало, никак не дашь ей больше сорока; а тут растрепанная, в халате, без румян она походила на старую отставную сводню, живущую на свои сбережения. Она не поздоровалась с Робером. Без единого слова она протянула ему газету. Я смотрела, как он читает, и увидела, что он переменился в лице. Он почувствовал на себе мой взгляд и улыбнулся.