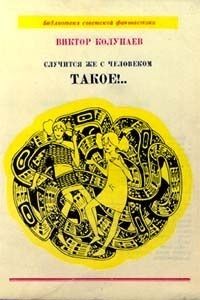Простите меня за все, что я Вам там наговорил, за то, что хоть на миг испортил Вам настроение, за то, что не разглядел с балкона, что Вы не только Женщина, но прежде всего Человек, прекрасный, как чудо, в которое я всегда верил.
И еще.
Четыре года назад четверо мужчин, у которых уже были дети, и четыре женщины, которые все уже рожали детей, отказались уступить машину, чтобы отвезти Вас в родильный дом. И я был одним из них. Я даже не пытался уговорить их уступить машину. И все четыре года мне и в голову не приходило, что я совершил подлость.
Мне всегда казалось, что я люблю людей. И вдруг открыть в себе, что ты бесчеловечен. И не сейчас, не только что, а давно. Тут дело не в Вас. Ведь это была Женщина, которая должна была родить Человека.
И это оказались именно Вы.
Вот видите, сколько я доставил Вам неприятностей. Я еще не знал Вас, не предполагал вообще, что Вы существуете, а уже причинил Вам боль.
Потом я увидел Вас и в первую же встречу обидел Вас.
Встретился еще раз, и снова Вам стало плохо.
Я не знаю, простите ли Вы меня когда-нибудь или нет.
Я говорил Вам, что мне хочется видеть Вас, говорить с Вами, слушать Вас, целовать Вас. Все не то.
Я просто люблю Вас.
Я люблю Вас, Мира.
Мира, я счастлив! И мне ничего не надо, кроме одного: будьте счастливее меня!
Я никогда не спрашивал у Вас, любите ли Вы своего мужа, любите ли Вы кого-нибудь, потому что я уверен, что Вы любите своего мужа. И ничто не заставило бы Вас остаться с ним, если бы ушла Ваша любовь.
Я не буду искать с Вами встреч. Считайте, что меня нет, меня не существует.
Мне даже кажется, что не было и этой глупой недели, когда мне посчастливилось видеть Вас близко, говорить с Вами, сгореть со стыда и после этого полюбить Вас.
Мира, я люблю Вас!»
На улице было уже светло, когда Перекурин кончил писать. Он вышел на балкон, закурил. Хоть бы небо раскололось, чтобы она вышла посмотреть на него. И он бы увидел ее.
Но небо не раскололось. Какое ему дело до любви Перекурина? Александр положил листок в карман и вышел на улицу. Первой он сегодня должен увидеть ее.
Он ждал ее возле детского сада, у трамвайной остановки, у здания Управления главного архитектора, но не встретил.
Едва он вошел в свой отдел, как увидел Гордецова. Тот даже не сострил при встрече, только сказал:
— Что случилось?
— Весна, — коротко ответил Перекурин.
— Какая, к черту, весна! — заволновался Гордецов. — Август, август на дворе! Представитель тут все ногти себе пообкусал. А директор валидол пьет. Ведь полнейший завал в секторе. Никакие статистические данные здесь не помогут.
— Хорошо. Пойдем беседовать с представителем.
В кабинете директора все пропахло табаком, хотя окна были раскрыты настежь. Пухлые пачки отчетов и протоколов обследования граждан на предмет наличия таланта и одаренности лежали на полу. Представителю, наверное, уже надоело их изучать, он сидел, тупо глядя перед собой.
— Вот, явился, — сказал директор. — Тебе сейчас надо не вылезать из своего сектора, а ты порхаешь бог Знает где. — Директор хотел сказать «черт знает где», но его остановило присутствие представителя. Все-таки из главка.
— Ну так что, Александр Викторович, — спросил представитель, собрались с мыслями? Почему сектор лихорадит? В мае недовыполнили план, в июне наверстали. А в июле завалили так, что за два месяца не нагонишь.
— Спокойный месяц, — ответил Перекурин. — Я уже думал над этим.
— Что значит спокойный? — удивился директор.
— Июль, август. Покой в душах людей. Не будет до осени талантов.
— Да июль, август самые жаркие месяцы, — заволновался директор. — Все в отпуск торопятся. Билеты, чемоданы. Детей пристроить надо. Какой же тут покой!
— В том-то и дело, — сказал Перекурин. — Я где-то читал. Прилетели разумные существа на одну планету, может быть, на Землю. Слышали, что на морях и океанах бывают бури. Но что это такое, никто не знал. Летают над водой. Море тихое, ласковое, спокойное. Всю измерительную аппаратуру повключали пришельцы. Нет бури! Летают день, неделю, вторую. Нет бури. Что за напасть! Вдруг налетел ветер, а летательные аппараты хрупкие, вот-вот разобьет их. Скрылись пришельцы на берегу. Переждем, думают. Переждали. Снова тишина да покой. И снова бедные летают над океаном или морем и никак не могут найти бурю. Так и улетели. Решили, что на этой планете бурь не бывает.
— Интересная история, — улыбнулся представитель. — Только в чем тут аналогия?
— Чудишь, Александру — сказал директор.
— А аналогия вот в чем. Может ли быть талантливой спокойная душа? Покой — это нулевая линия. От нее можно и вверх и вниз. А талант — это отклонение от нулевой линии. Только, я думаю, не обязательно вверх и строго параллельно покою. Талант — это колебательный процесс. От горя к счастью. Это когда душа человека ищет, не хватает ей чего-то. С одной стороны. А с другой стороны — ее переполняют страсти, буря, непокой. Когда человеку просто необходимо выплеснуть частицу своей души, искренне, страстно, без оглядок. Когда человек не боится, что обеднеет, отдав частицу себя… Мне кажется, это должно быть трудным состоянием. Талант для человека не только счастье и радость. Это и боль, и горе, и мучительные раздумья, и разочарования.
— Занятно, — прервал его представитель. — Вот еще увязать бы это с планом.
— Эксперименты проводишь? — нахмурился директор.
— Тихий месяц июль, — сказал Перекурин. — Людям не до стихов и музыки. Билеты в Геленджик доставать надо. Не тем заняты сейчас души людей. Пришел на днях один гражданин. В кресло садится, а сам смотрит на меня умоляюще и говорит: «У вас нет знакомых в агентстве Аэрофлота?» И я уже знаю, что для музыки этот человек сейчас глух. И для стихов тоже, и дли любви. В спортивный сектор его надо. Он сейчас стометровку может пробежать по второму разряду, хотя не бегал уже лет десять.
— Но ведь вы неуважительно относитесь к своим… — начал было представитель.
Перекурин махнул в его сторону рукой, словно говоря; «Да подождите вы».
— Был я однажды в гостях у поэта Серегина. — Перекурин замолчал. Вот смех-то! Ведь он был у нее в квартире еще зимой. Серегин тогда сам попросил кого-нибудь прийти из БОТа. Поговорить, узнать друг друга лучше. Ему хотелось завязать прочные контакты с бюро. А Миры в тот день не было дома. Ну конечно, ведь это было в рабочий день.
— Поэтов у нас маловато, — сказал директор.
— Так вот. Был я однажды у него в гостях… Сколько он ни выпустил книжек, а ведь мы ему до сих пор свидетельство даже о простой одаренности выдать не можем. Не находит наша машина ничего. А он на нас обижается. Халтурщики, говорит, вы. Вот и я подумал, может, у него в душе покой, когда он к нам приходит, потому и получается круглый нуль. А он говорит: «Вот хотите, я на ваших глазах напишу гневное стихотворение. О Вьетнаме, например». — «Хочу», — отвечаю я. Берет Серегин лист бумаги и шариковую ручку. Начинает писать. Написал две строчки — заело. Походил немного по комнате. Мать его предложила нам кофе с коньяком и конфеты. Выпили мы. «Прекрасно, — говорит он. — Люблю этот напиток. А вы?» Поговорили о кофе и коньяке. Тут Серегин еще пару строчек написал. Снова заело. Это меня не удивило. Не может же человек как из рога изобилия сыпать строфами. Наоборот, что-то уж очень быстро у него получалось, по моему мнению. За полчаса написал стихотворение. И поговорить за это время успели о многом. И о собаках, и о любовницах, и о бельгийских костюмах из черного шевиота. Показывает он мне стихотворение. Очень аккуратное стихотворение. Даже с восклицательным знаком. «Через недельку, говорит, — увидите в областной газете». И действительно ведь появилось. Только зря бумага пропала. Никого оно не тронуло, я уверен. Разве что главного бухгалтера, когда он ведомость подписывал. Не было в этих стихах гнева. Не было! Разве можно писать о горе, а самому рассказывать сальные анекдоты в это время? Тишина у него в душе. Покой. Доволен он всем. И войной этой он доволен, потому что она его не касается, а писать о ней можно. Напечатают.