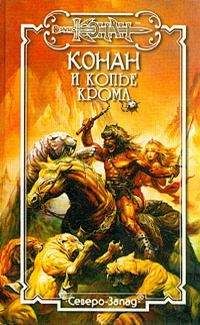Послышался сдавленный плач. Витька осторожно приоткрыл глаза, рукой заслоняясь от лампочки. Тамара сидела на стуле, уронив голову на низенький столик трюмо, тряслись острые плечи, тряслась в дыре халата голая лопатка, перетянутая лямкой лифчика. Витька откинул одеяло, шатаясь, подошел к трюмо, наклонился.
- Тамарка, Томша!.. Ну, перестань, ну, все прошло... Ну, хватит. - Он гладил трясущейся рукой короткие, жестковатые волосы жены.
Тамара резко откинула его руку, вскочила в распахнутом халатике, зареванная, некрасивая, но была сейчас для Витьки прекраснее и желаннее всех женщин. Скособочившись, он потянулся к ней, ловил ее тонкие костлявые руки, стискивал плечи.
- Том... Томша... хватит... давай спать... Том-ша... Он криво ухмылялся, отвесив нижнюю слюнявую губу, а ему казалось, что улыбается ослепительно и призывно. Он весь трясся от внезапного желания, перед глазами плыли шифанер и трюмо.
От резкого толчка в грудь Витька упал на кровать, больно стукнувшись затылком о стену, тяжело заворочался, путаясь в одеяле, поднялся и пошел на нее, бросавшей ему в лицо, точно плевки:
- Куда лезешь... Убери свои грязные лапы! Тоже мне, захотел... Вспомнил, что муж!..
Ярость залила глаза, в воздухе поплыли багровые круги. Это не Витька., это кто-то другой, сидящий в нем, злобный на все и на всех, не задумывающийся, оборвал его бессвязные восклицания, заткнул рот мокрым от пота кулаком, выдавив на губы яркую пенную кровь. Это не Витька, противно шипя, цедил сквозь зубы:
- С мужем, значит, не хочешь... с другими спуталась... с другими валяешься, раз с мужем законным нее желаешь... с другими...
Всхлипывал за стеной во сне пострадавший Валерка.
8
Мутное белесое небо за окном и видна только деревянная двухэтажка на другой стороне улицы с торчащими, как пни, облупленными кирпичными трубами. А за ней, вместо спускающегося к реке Глазково - скопища погруженных в сады частных домишек, - такое же мутное марево, сливающееся с небом. Дождь... По стеклу лились извивающиеся струи, за окном журчало, с хлюпаньем прокатывались редкие машины. Стекло было прохладное. Витька прижался к нему горячим лбом, а пальцы, которыми он сжимал подлокотник, были покрыты ледяной влагой. В голове привычно гудели колокола, путая мысли, но думать было необходимо, потому что сегодня день получки, и если он выкрутился полмесяца назад, отдав Тамаре вместо аванса расчет, если он выкручивался все эти полмесяца, сидя у Лехи на хате или слоняясь по центру от одного пивного ларька до другого, то сегодня подходит конец. Больше ему не придется выкручиваться, если не достанет денег.
Витька с сожалением вспомнил тот газетный сверток, который давно отдал Лехе. На два миллиона можно было прожить год, даже больше... Но что о том думать.
Сегодня Леха должен быть дома, соберется компашка, и это хорошо - потому что дождь и много по улицам не пошляешься. Но где взять деньги?.. Витька чувствовал, что после сегодняшнего дня вся его жизнь полетит кувырком...
Так и будешь стоять, уперевшись лбом, как баран? На работу опоздаешь.
Витька отпрянул от окна. Тамара застилала постель и, оборачиваясь через плечо, зло поглядывала на него.
- Норовишь поскорее из дому выжить, - пробурчал Витька и, пошатываясь, пошел к дверям. - "Опоздаешь... на работу". Не твое это дело.
- А кормить всех вас мое дело? - неслось вдогонку. - А блевотину за тобой подтирать - мое?..
У двери Витька остановился, повернулся, держась за прохладную ручку. Тамара кричала, бросив одеяло, перекосив рот. Лицо багровое, напряженное, глаза выпученные и чужие. Она вообще как-то сразу стала чужой с того вечера, когда Витька впервые ударил ее, и не было уже между ними ласковых минут.
- Ну пошло, разоралась, - невнятно проговорил Витька, с трудом ворочая шершавым языком. Хотелось пить, но нельзя Витька знал, что тут же стошнит. В общем-то привычное, нормальное состояние, только бы до Лехи догрести, а там примет - и полегчает.
Витька посмотрел еще на Тамару, как она рывками сворачивает одеяло, зло сплюнул на пол и ушел в полутемный коридор. В соседней комнате горел свет, возились мальчишки, а в дальней громко кряхтела бабка Маня, у которой всегда в непогоду ломило кости.
Витька постоял у вешалки, прислонившись плечом к стене, обхватив ладонями потный лоб. Вот и пацаны тоже чужими становятся. Димка вообще разговаривать не хочет, отворачивается при виде отца. Валерка, даром что маленький, и тот исподлобья смотрит. Волчата... Что-то говорил про детей Одноногий однажды, обидное что-то. Прав был, выходит, старый хрыч, неважно, что пропился весь и кроме вина ни о чем не думает. Прав... Витька глубоко вздохнул и полез снимать куртку, но его повело в сторону, ухватился за куртку и оторвал вешалку. Еще раз плюнул со злости и досады. Вот и вешалку некому будет пришить. Томка не станет, дождешься у нее.
Уходя, он нарочно саданул дверью, на кафель площадки посыпалась известковая крошка.
Перешагнув высокий порог Лехиной хаты, Витька встряхнулся так, что с куртки полетели брызги. В комнате было темно от дыма, дым лениво плавал толстыми слоистыми пластами, закручивался, то устремляясь вверх, то прижимаясь к полу, и исчезал под столом. Вся компашка была тут. За пустым столом, боком к дверям, сидел Колям в наглухо, до шеи, застегнутой цветастой рубахе - ни дать, ни взять, настоящий цыган из табора. Одноногий, стуча костылями, беспокойно ходил от буфета с пузатыми ножками к столу и обратно, то вдруг устремлялся к окну, наваливался пузом на подоконник, сминая побеги в горшочках, и презрительно сплевывал:
- Пого-ода!..
Из спальны вышел Леха в майке, открывавшей волосатую грудь, с початой бутылкой белой.
- Вот и все в сборе, - громогласно объявил он, хлопая бутылкой о стол. - Можно лечиться...
Бросив куртку под вешалку на валявшиеся с зимы черные драные валенки, Витька прошел к столу и опустился напротив Коляма, помотал тяжелой, будто залитой свинцом, головой.
- Вчера кореша встретил у киоска, - начал Одноногий, умащиваясь за столом. - Раскрутил на пузырь красенькой.
- Ну-у? - удивился Леха, разрезая сапожным ножом круглую булку. Хлеб был сырой и резать пришлось толстыми ломтями. - Тебя еще не все собаки прознали?
- А ты слухай, - обиделся Одноногий. - Я его в упор раньше не видел, кореша этого... Кандалыбаю я, значить, к киоску у рынка. Ранехонько этак, часиков в восемь. Во рту пожар, в животе - пожар, но чую я, что зря - с утра же ни одна паскуда не подаст. Чапаю в таком настроении мимо магазина твоего бывшего... - Он подмигнул Витьке, хохотнул. - Гляжу - у магазина мается мужичонка лет за сорок. Прилично одетый, в шляпе, антеллигентный такой. Мается он, значить, и по глазам видно, похмелиться ему - позарез. Я сразу смекнул, что к чему. Подковылял, значить, и гаркнул ему в самое ухо. Друже, ору, однокашник, сто лет тебя не видывал!.. Смотрит он на меня, смотрит - не признает. Но ему же неудобно сказать, что запамятовал. А я свою бодягу гну: как поживаешь да где работаешь, да не женился ли... Ну, тут он тихонько так, вежливо и отвечает: "Извините, говорит, не припоминаю я вас". Я, конечно, сразу рожу обиженную: "Д, кричу, конечно, изменился я шибко. Как, кричу, на трудовом посту костыль отломали, так многие, кричу, узнавать меня прекратили!" Тут ему еще неудобнее стало, и он тихонько, неуверенно: "Васька, ты, говорит, что ли?" Ага, говорю, вспомнил, чертяка... Ну, и пошло у нас, поехало, встреча друзей, объятия. Я ему про киоск - дескать, чего ты здесь торчишь, когда еще откроют, а тут ниже - день и ночь с распростертыми объятиями. Так выпьем, друже, за встречу... Ну, куда он денется? Сразу за киоском и раздавили красенькую... Вот оно как, а ты говоришь, собаки!..