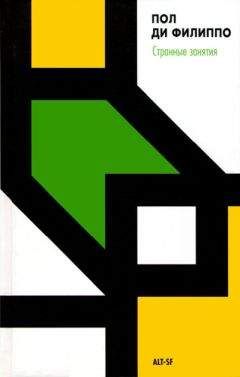Вывеска висела над дверью небольшой закусочной на Вашингтон-стрит в городке Хобокен, штат Нью-Джерси. Был полдень трепетно солнечного июньского понедельника. Дверь закусочной была заперта, а табличка на ней повернута на ЗАКРЫТО. На табличке виднелись отпечатки пальцев кетчупом.
По Вашингтон-стрит несся плотный двусторонний поток машин, по тротуарам спешили пешеходы и велосипедисты. По обе стороны широкой авеню выстроились средних размеров дома с магазинчиками на первом этаже и квартирами выше. К запахам выхлопов и стряпни примешивалась слабая вонь с реки к востоку. «Максвелл хаус» на углу Двенадцатой и Гудзон испускал всепроникающий запах жарящегося кофе — точно кофеварка богов. Болтовня по-испански, шипение пневматических тормозов, шлепанье о тротуар выгружаемых картонных коробок, писк младенцев, шумные ссоры подростков, сирены, музыка — шумная жизнь небольшого городка.
В квартале от закусочной по тротуару рассеянно шел мужчина. У него была густая рыжеватая борода, из-под бейсболки «Метс» свисали длинные волосы. Одет он был в кроссовки, джинсы и толстовку с надписью СПОНСИРОВАНО «ХРАБРЕЦАМИ ХОНИМЕНА» на спине. Он был подтянутым, скорее стройным, чем мускулистым. Двадцать лет назад он получил аттестацию как ныряльщик мирового класса. Не режим напряженных тренировок, а скорее хорошие гены и умеренный аппетит помогли ему сохранить юношескую внешность и телосложение.
Мужчина миновал химчистку, книжный магазин, бар, винный погребок, цветочный магазин. По дороге он насвистывал невнятную мелодию, а руки держал в карманах джинсов, где позвякивал монетами.
Дойдя до закусочной, он, не замечая таблички ЗАКРЫТО, взялся за потертую дверную ручку и попытался войти. Когда дверь не открылась сразу, он, казалось, был озадачен. Ему потребовалась минута, чтобы решить, что нет, это не ошибка с его стороны. Он поднял глаза на колоссальный сандвич над дверью. Изучил табличку с отпечатками пальцев. Прикрыв глаза от солнца рукой, всмотрелся через окно в темное помещение. Будь у него водительские права, он, наверное, достал бы их из бумажника и изучил, чтобы удостовериться, что он действительно Рори Хонимен и что это действительно его заведение.
Установив наконец, что эта заброшенная закусочная и есть его заведение и что она наглухо заперта, тогда как должна была открыться еще час назад в преддверии давки во время перерыва на ленч, Хонимен отступил на шаг и пробормотал два слова: «Проклятый Нерфболл». На том он развернулся и с гневной решимостью зашагал прочь.
Хонимен шел на север по Вашингтон-стрит, пока не добрался до Четырнадцатой. Тут запах кофе стал сильнее, потом снова ослаб. На перекрестке он повернул на восток, к реке. Местность становилась все более грязной, бедной и запущенной. Заброшенные здания чередовались с мрачно-шумными барами (ДАМЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ), а над ними битые стекла в окнах квартир были залатаны фанерой и скотчем. Жилые дома уступали место заводам и складам. Завод по переработке рыбы распространял вокруг морское зловоние. Под стеной здания безнадежно слонялась кошка. Хонимен решил, что узнал Кардинала Рацингера.
Пересекавшая весь город улица наконец уперлась в реку Гудзон. Ржавая цепь отделяла ее от свалки на берегу, поросшей сорняками и усеянной покрышками, пластиковыми пакетами, тележками из супермаркетов и остовами автомобилей… За широко раскинувшейся рекой во всей своей мрачной красе поднимался Манхэттен.
Слева от Хонимена стояло здание. Перед ним Хонимен помедлил, его былая решимость на мгновение пошатнулась.
Проблема: входить ли в дверь или нет. Если он войдет, то, возможно, найдет своего пропавшего работника и тогда сумеет открыть закусочную и еще получит хоть какую-то выручку с перерыва на ленч. С другой стороны, с той же вероятностью он впутается в какую-нибудь идиотскую историю, которая затянет его, как в водоворот, закружит, собьет с пути истинного голосами и телами, выпивкой и дозой, затеями и заговорами и полностью поглотит остаток дня. Или даже, может, целые сутки. Неделю. Месяц. Год. Остаток жизни? Кто знает? Такое уже случалось с другими… Но разве сейчас он не растрачивает попусту свою жизнь? И не растрачивал ее последние двадцать лет, с того единственного взрывного дня под солнцем Мексики, когда его жизнь рухнула из-за одного импульсивного поступка, стянулась к сингулярности мгновения, бесконечно плотной, неотвратимой, горькой и всеисключающей? Ш-ш-ш, дружище, ш-ш-ш, если такие вопросы и задают, то в три часа ночи, а не ясным июньским полднем…
Поэтому Хонимен еще минуту созерцал здание перед собой.
Пятиэтажный дом был из красного кирпича, потускневшего и выветренного за столетия непогоды. Верхние ряды кирпичей складывались в декоративные орнаменты, созданные мастерством каменщиков: рисунок елочкой и перекрещивающиеся косые штрихи. На карнизах поблескивали давно окислившиеся до зелени медные накладки — удивительно, что они еще сохранились на этом считающемся заброшенным доме. Черепичная крыша в приличном состоянии. Все окна закрашены черным. Здание занимало большой квартал целиком.
На одном его углу — том, который выходил к реке — поднимался чудовищных размеров квадратный дымоход, украшенный поверху опять же кирпичными орнаментами.
Прямо перед Хонименом — дверь. Вернее, не одна, а целых три. Первую двенадцати футов высотой и десятью шириной скорее следовало бы назвать двустворчатыми воротами. Створки из толстых досок, некогда выкрашенных зеленым, а теперь серых, облупившихся и шершавых, скрепляли цепь и гигантский ржавеющий замок, которому на вид было не меньше полувека. В эти врата была врезана дверь обычных размеров, закрытая на старомодную щеколду. Как раз над ней и размышлял Хонимен. Внизу второй, человеческой двери имелась третья — для кошки или собаки. (Хонимен мог бы воспользоваться этим входом, если бы захотел. Другие часто выбирали его.) По держащейся на верхней скобе створке шла надпись изящным каллиграфическим почерком, в котором Хонимен узнал руку Зуки Нетсуки. Она гласила: КАРДИНАЛ.
Притолокой вратам служил огромный брусок джерсийского известняка, с двух сторон залитый цементным раствором в кирпичную кладку. В мягком камне было вырезано следующее:
1838 ПИВОВАРНЯ «СТАРЫЙ ПОГРЕБ» 1938
Последняя дата была выполнена строгим шрифтом «Футура», первая — изящным, с осиной талией «Баскервилем».
Остановившись в паре футов от тройного входа, Хонимен прислушивался. Никакого шума изнутри. Это могло быть как хорошим, так и плохим знаком. Полезно помнить, что самые безумные затеи Пиволюбов рождались в сравнительной тишине. Рождение не каждого Цезаря сопровождается громом, молниями и явлением богов на Капитолийском холме. С другой стороны, возможно, все мирно спят. Ни за что не определишь.