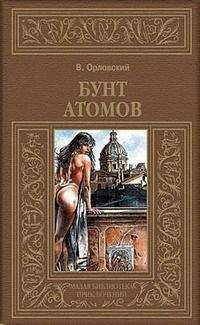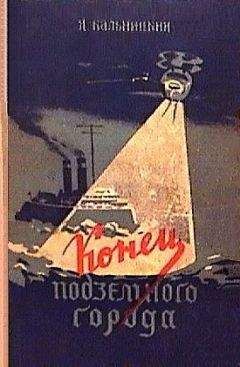На него нахлынула вдруг волна нежности, выдавившая из глаз слезы. Ну вот, этого только недоставало,- расплакаться здесь, в холодной, торжественной тишине лаборатории. Ведь он же хотел продумать систематически до конца всю нелепую историю, а не проливать над ней слезы.
Сколько прошло времени в этой сумятице мыслей,- Флиднер не мог отдать себе отчета. Вероятно, не больше четверти часа,- а может быть, и полчаса,он не мог сказать наверное.
- Нет, так работать нельзя,- сказал он, наконец, почему-то вслух и наклонился снова к микроскопу, перед тем, как остановить аппарат. То, что он увидел, было настолько неожиданно, что он даже вскрикнул. В поле зрения уже не было отдельных огненных линий или пучков лучей,- весь круг был охвачен бушуюшим огненным морем; дыбились и кружились пламенные вихри, уносясь слева направо по направлению тока. Все это было так необычно, что Флиднер инстинктивно схватился за рубильник и выключил электричество. Умформер умолк, и настала мертвая, пустая тишина, от которой сжалось сердце в зловещем предчувствии.
Картина под микроскопом изменилась мало. Так же бушевало огненное море, только не было теперь течения его в одном направлении, и вихри мчались, сталкивались и разбегались во все стороны в полном хаосе. Он отодвинул прочь стерженек с радием в трубке газа,- все оставалось по-прежнему.
Флиднер протянул руку к выключателю и осветил лабораторию. Это его успокоило. Стояли на своих местах аппараты, реторты, склянки, торчали со стен костяными пальцами рубильники, темнели окна ночною темью, и сияла яркая красноватая звезда, вероятно, Арктур. И тишина не казалась уже жуткой; все вокруг было простое, знакомое и понятное.
Чего он, в сущности, испугался?
Глупая игра расходившихся нервов... померещился взрыв в Нанси; показалось, что сейчас дикая сила разнесет вдребезги и лабораторию, и все, что вокруг. Какая глупость. Ну вот, он остановил работу аппарата, и все благополучно.
Правда, процесс, видимо, не остановился; ну, так что же? это доказывает, что он добился своего, что атомы разрушаются целиком, или почти целиком,- это пока сказать трудно, и, следовательно, выделяется скрытая в них энергия; ее он и видел в образе этих буйных огненных вихрей над флуоресцирующим экраном.
Он взглянул на аппарат сбоку. Под объективом микроскопа сияла видная простым глазом яркая точка. Нагнувшись ближе, он с удивлением убедился, что стеклянная трубка проплавилась, и что бледно-синеватая огненная звездочка вздрагивала снаружи у медной оправы.
Неприятный холодок снова побежал по спине.
Он инстинктивно протянул руку к блестевшей точке, но тотчас ее отдернул,- пальцы обожгло, как от прикосновения к раскаленному железу. Он смотрел растерянно на странное явление, не отдавая еще себе отчета в том, что случилось. И вдруг ему показалось, что сверкающая точка растет на его глазах, что это уже не точка, а шарик величиной с горошину. Он протер глаза, взглянул и почувствовал, что волосы на голове у него зашевелились, а лоб покрылся холодной испариной.
Не отдавая себе отчета в том, что он делает, он схватил стакан с водой, стоявший рядом на столе, и выплеснул его содержимое под микроскоп. Раскаленная трубка с треском лопнула и осколки стекла посыпались на пол, облачко пара поднялось с шипением из-под огненного шарика, а сам он, слегка качнувшись, отодвинулся вправо и остановился над мраморным столом, чуть вздрагивая, будто пульсировала в нем еле сдерживаемая сила. И теперь было совершенно очевидно, что он растет с каждой минутой - медленно, но неизменно.
Флиднер вдруг почувствовал, что у него прыгает нижняя челюсть, и зубы стучат друг о друга. Он схватился руками за голову и стоял неподвижно с помертвевшим лицом и дико вытаращенными глазами.
Мысль работала лихорадочно быстро, и каждый прыжок ее сотрясал все тело тяжелым ударом.
Это - катастрофа, катастрофа, какой еще не бывало на земле, как ни дико было об этом думать. Вызванный им распад атомов в крупинке газа оказался настолько энергичным, их осколки с такой быстротой и силой разбрасывались во все стороны, что, наталкиваясь на соседние молекулы, разбивали их в свою очередь, и теперь процесс распространялся неудержимо от частицы к частице, освобождая скрытые в них силы и превращая их в свет, тепло и электрические излучения. Это была искра, из которой должен был вырасти мировой пожар. И уже ничто не было в состоянии остановить начавшееся разрушение. Ничто! Разумеется, ведь мы совершенно не умеем влиять на процессы внутри этих, в сущности почти неизвестных нам микрокосмов.
Ничто! И мир еще ничего не знает, не предчувствует, что здесь, в тиши лаборатории, повеяло первым дуновением бури, которая должна разнести в космическую пыль земной шар. Никто ничего не знает. Спят, ходят, едят, работают, смеются, заняты миллионом своих маленьких делишек, а между тем в мир идут смерть и разрушение. И это сделал он, Конрад Флиднер... Маленький, седенький старичок, тот самый, у которого сбежала дочь...
Он вдруг начинает смеяться все громче и громче; зубы стучат, нижняя челюсть прыгает, как на веревочке,- потом он вдруг бросается к двери и, распахнув ее, бежит без шляпы, с развевающимися волосами, по темным дорожкам сада, наталкиваясь на деревья, падает,, снова подымается и опять бежит к дому, не переставая смеяться.
Глава IУ Первая жертва
В маленькой комнате в четвертом этаже мрачного серого дома на Лейбницштрассе было сумрачно и почти темно, хотя давно уже прогудел автомобиль, развозящий молоко, и схлынула толпа рабочих и мелкого люда, рано начинающего день.
Моросил мелкий дождь; окно комнаты глядело на унылую нештукатуренную стену соседнего здания. Было тихо, только в смежной комнате уныло и надсадно переругивались два голоса, точно тявкали друг на друга две охрипшие, безголосые собачонки.
Дерюгин лежал, вытянув ноги и подложив руки под голову, на клеенчатой кушетке, скрипевшей и стонавшей при каждом его движении.
Он ожесточенно курил папиросу за папиросой, так что рядом на столике выросла уже целая гора окурков, и кучки пепла сыпались с этой пирамидки на вязаную скатерку, имевшую претензию придать уют угрюмой комнатке.
Дерюгин лежал, курил и думал. Эти несколько последних дней выбили его из колеи привычной рабочей, жесткими углами разлинованной жизни. Перед ним встали задачи, требовавшие разрешения, и хуже всего было то, что они казались настолько неясны и запутаны, что, пожалуй, вовсе и не являлись задачами.
Для его прямолинейного ума это было сущей пыткой.
Здесь нельзя было перечислить ясно все за и против и ответить: да или нет, нельзя было измерить, взвесить и рассчитать.