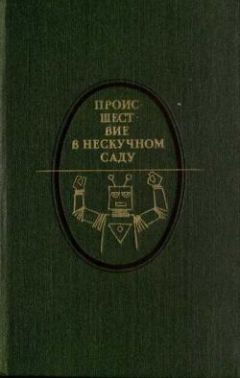На вершинах труда исчезает мир, и ты свободен, и тебе не страшно. Не пустыня кругом тебя, а убегающие от тебя звезды. Ты свободен, ты больше не ненавидишь, не любишь и не мыслишь. Ты только знаешь. И другая неведомая сила взорвется в тебе, какой тут нет имени.
Нежно и тонко где-то далеко запела птичка, будто заплакал ребенок. Чагов посмотрел на небо, на тишину, и старая боль от нестерпимой зовущей красоты вселенной впилась в него. Будто позвала она его, как девушка, которую Чагов всегда любил и которой не было на свете: – Родной мой!
И он заплакал, как одинокий древний человек. Звезды в мраке качались, как цветы, и оседала густая роса.
Чагов поднялся и вышел из оврага. Далеко также горел и не потухал костер уснувшего человека. Выл гудок на заводе, распуская ночную смену, и тяжело дышала паром электрическая станция. Он вспомнил машины, великих товарищей, спящих до утреннего гудка, и засмеялся от радости и надежды.
– Мы идем к тебе, неведомый мир, мы очарованы тобой, и мы никогда не умрем.
Чагов вытянулся, кровь хлынула от сердца, и он задрожал от силы и бессмертия.
Внезапная, страшная мысль ударила его. Он остановился и потер руки.
Он долго не мог понять, что ему делать и нужно ли теперь идти в город, нужно ли работать. Красная звезда пробичевала небо и бесшумно исчезла в пустоте, озарив смутные дороги и какого-то человека на них.
Больше ничего не было видно.
Чагов очнулся. Низко блестел поздний месяц. Мертвая земля лежала без конца. Спали в городе товарищи.
В этот миг могла случиться страшная катастрофа, и никто бы не спасся. Человечество увидело бы только свой сон. Один Чагов больше не увидел бы сна и бился бы один с разбушевавшимся миром до конца, до смерти в восторге. И может, победил бы и увидел последний бесконечный сон.
Чагов понял свою внезапную пронесшуюся мысль.
А что, если и мысль, и жажда истины есть только та же простая сила, как голод или ритмическое колебание крови в теле, только хорошо организованная, высшая форма этой простейшей силы… И поэтому мысль и истина – ничтожество в бездонной пучине вселенной, вселенная имеет более великие ценности, неизвестные человеку. Тогда работа Масс не имеет того смысла и цели, какие мы думаем, тогда сама полная победа Масс над природой есть только победа природы же над своим неравновесием, а не победа внешней силы – человечества – ради человечества. Тогда все это слишком ничтожно и потому ненужно.
Мысль есть жизнь моего тела, и тело произвело мысль ради себя, а земля произвела тело ради себя.
Чагов пошел. А тогда мы-то на что? Мы восстанем и на это, раз это так, но не обманемся и биться за ложь, за мечту не будем. Тогда мы восстанем и на мысль, и на истину, и на себя, но добьемся конца.
Без усилия, без муки, вольно и высоко вскинулся в нем живой, неистребимый дух, строящий надежды и радость везде, где есть тьма и сомнение. И он неуловимо, безмолвно и без мысли понял свою правду и пошел к городу, быстро и свободно, не чуя себя.
Город горел в электричестве.
Чагов оглянулся. Также горел на краю поля костер, может, уже ушедшего человека, но он был так далеко, будто на небе, и звезды были рядом с меркнущим огоньком.
Тихо подошел к Чагову из темноты человек и обнял его. Чагов ответил и поцеловал его. Человек заплакал.
– Что с тобой, товарищ?
Человек опомнился и заговорил:
– Я хочу для тебя сделать что-нибудь, я пришел поклониться… Я ходил всю ночь по городу, и никого нигде нету. Я бросился в поле… Я от любви не могу жить и спать….
Его тонкие руки зашелестели по волосам Чагова. Чатов понял: в последнее время, время накануне восстания Масс на вселенную, много стало таких людей, которые поклонялись человеку, молились на него и часто умирали от своей безысходной, невыносимой любви.
Светало. Чагов пришёл в общежитие и сел за чертежи любимой машины, за свой великий проект, который он творил, как поэму. В нем опять запела музыка, и его геройская человеческая душа заиграла в железной, неоконченной поэме.
Поднялось солнце, и сразу по одной команде заревели тысячи гудков.
Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Непотушенный свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы.
Сон больше не придет. Фаддей Кириллович одел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.
– Ну-с, Фаддей Кириллович, нажмем снова, – сказал он самому себе, – микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!
Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: это же, понимаете, мухоловка! И у меня все так, желтые граждане, – перо тычет, а не скользит, чернила – вода, бумага – рогожа! Это удивительно, господа!..
Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату, населенную немыми, но внимательными собеседниками. Мало того, он тихие вещи безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.
Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: заканчивай, заноза! А сам лег спать.
Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого нерачительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.
Работал Фаддей Кириллович всегда бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.
Крысы утихли, потому что Фаддей Кириллович действительно забормотал:
– Поспешим, Фаддей! Поспешим, сатана души моей!.. Несомненно одно, что… что как только почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что… если железо начнет размножаться, то… эти, как их, женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько людей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность… Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..
Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.
Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовы дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.
– Идиоты! – не выдержал Фаддей Кириллович. – До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..
Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу:
– Какая-то стерва вторые сутки грызет! Только успокоишься, а уж какая-нибудь болячка появится! И вечно трудно человеку!..