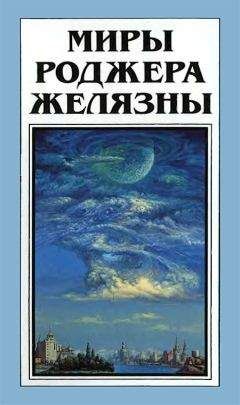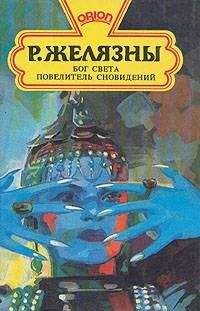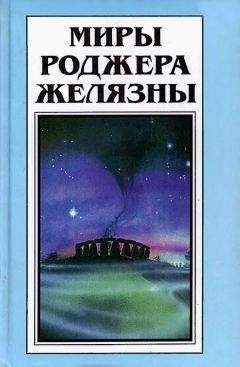Млечный Путь из сверкающей звездной пыли спускался над его плечом к липу. Превратив небесную реку в Бурбонный Путь, он сделал глоток и задумался о прошлом.
— Неужели ты позволишь… — донесся слабый шепот дутиков.
Он ничего им не ответил.
«И не только потому, что я люблю Землю…»
— Генри? — Да.
— Мы не можем!
Он разглядывал ее белокурые волосы и призрачно-серые глаза, которые смотрели мимо него. (Всегда только мимо.) Когда она надувала губки, ее маленький подбородок становился еще меньше.
— Что — не можем? — спросил он, погружаясь в омут прекрасных глаз.
— Оставаться на этом чертовом осколке мира. Неужели ты хочешь, чтобы мы стали последней парой на мертвой Земле? Он и его лучшая подруга?
— Да, я этого хочу.
— Чтобы потом искать сочувствия у бездушных машин и слушать болтовню твоего книжного барда? Мы сойдем с ума! Мы станем ненавидеть друг друга. Без цели и надежды…
— А у тебя есть выбор? — перебил он ее. — Совет Евгеники принял решение, и люди навсегда покинут этот мир!
— Я не понимаю, почему ты против. После Перехода все останется тем же самым.
— Давай выразим это по-другому, — с улыбкой ответил он. — «В общем-то Генри хорош — особенно при тусклом свете; он настоящий парень и выше всех подозрений… Но оставаться с ним здесь? Это же так примитивно!»
— Ты не прав, — сказала она, краснея. — Я докажу тебе это… позже.
Он покачал головой:
— Никакого «позже» не будет. Я никуда не уйду. Кто-то же должен остаться здесь, чтобы поливать цветы. И не только потому, что я люблю Землю… Нет! Я просто ненавижу звезды и то, что они означают. Мне не нравятся люди, улетающие к ним — улетающие для того, чтобы с чудовищной монотонностью повторить процесс, с помощью которого они опустошили этот мир, не оставив после себя ничего, кроме полных пепельниц. Почти всю жизнь я считал своим долгом заполнять эти пепельницы. Но теперь я знаю, что ошибался. Мне надо что-то сделать… Я стану смотрителем могил. Смотрителем могил! Неплохо, правда?
— Ты пойдешь с нами, — настаивала она. — Все уходят. И не надо капризничать! Тут больше не за чем присматривать. Дни Земли сочтены.
Он печально кивнул:
— Филлис, Филлис! Ты, как всегда, права. Этому миру уже ничто не поможет. Пройдет день, история Земли умрет, и люди оставят планету еще более пустой, чем она была до их появления. Трава, сгорая, превращается в пепел, а жизнь — в отчаянную жажду жить. После Исхода я уйду в Святилище. Мне хотелось оказаться там в компании подруги, но я могу обойтись и без тебя. Вернее, я буду ждать, когда ты затоскуешь и придешь ко мне. Впрочем, если хочешь попрощаться со мной прямо сейчас, можешь не медлить…
— Ты отправишься с нами! Я люблю тебя, милый! У тебя просто нервный срыв. Это пройдет, вот увидишь! Он посмотрел на часы:
— Тебе лучше одеться… к обеду. Скоро вернется Лен, и мне пора уходить. — Он встал, накинув на плечи огненный плащ.
— Подожди, любимый! Я приготовлю напитки. Жаль, что ты не можешь взять с собой и мою…
Ей так многое хотелось сказать ему напоследок, но в тот миг слова потеряли смысл.
«Как далека чертога тьмы от залов света».
«Да, — подумал он. — На расстоянии звезд и в десяти шагах отсюда… Прямо как дутики».
— Зачем ты это сделал? — спрашивал ближайший из них.
«О, как далеки…»
Кто-то кричал — кричал надрывно и беззвучно.
— Зачем?
— Я ненавижу себя! — произнес он с внезапной жестокостью. — Ненавижу себя и вас! Вы — личинки на кишках Бальдра! Вы ползаете, как черви, на трупе моего мира, и я не желаю мириться с вашим присутствием. Меня гложет ненависть к себе, но вас я ненавижу сильнее. Убирайтесь туда, откуда пришли! Это говорю вам я — хранитель Земли!
— Если ты… нас… силой…
Дутик стал крошечной звездой в его ногах — лиловым огоньком пламени, угасавшим в черных водах вечности.
— Улетайте домой, — прошептал он устало.
Они снова оказались в Святилище, и стены вновь распахнули двери. Двое оставшихся дутиков гордо подняли головы и с укором прожужжали:
— Ты привык. Привык к своему миру и своему времени. Но все это осталось в прошлом — далеком прошлом. Твоей расе нет оправдания. Своим единственным монументом она оставила бессмысленное уничтожение жизни.
— В этом мы соперничали со Вселенной, — ответил он. — И как всегда превзошли ее. Но посмотрите вокруг. В этой гигантской пепельнице есть и яркие угли. Здесь много такого, что оправдало бы нас.
Сжимая ладонями череп, он попытался расколоть его, но у него ничего не получилось.
— А теперь уходите отсюда. Оставьте меня одного.
— Ты тоже уходи…
Дверь насмешливо скрипнула за ними, и он вонзил в нее сноп светло-огненных молний.
А безмолвный крик продолжался.
«Как далеко чертоги тьмы. Как далеко…»
Услышав стон, он узнал свой голос и проснулся.
«Как далеко… послы дутиков просят разрешения… залы света…»
Фразы слились друг с другом. И он знал почему.
Это он перекручивал слова подушки, изменял их смысл и, понимая, не понимал. Он вмешивался и оставался безучастным; спал и не спал; осознавал и прятался в неведении.
— Скажи им, чтобы они уходили! Читай мне! Читай! Он знал и боялся знать.
…Длинная повесть о женщине по имени Анна и мужчине, которого звали Вронским.
…Поезд мчался к нему, как огромный ящер, извергая черный столб дыма и вопя от жажды крови. На рельсах…
Он включил свет.
— Прервать генерацию образов!
Поезд исчез, и он остался один, дрожа от ужаса и понимания.
Покрывало не успевало впитывать пот. Океаны воспоминаний отхлынули от берегов его разума. Закрыв лицо руками, он тихо спросил:
— Ты убрала кровь?
— Да, — ответила подушка.
— И ее тело?
— Да. Кремировала. Чисто и навсегда.
— Почему она сделала это? Подушка не отвечала.
— Почему она пришла сюда, чтобы покончить с собой? — настаивал он.
— Потому что она не могла уйти без тебя… и не могла остаться.
— Как давно это случилось?
— Семь лет, три месяца и тринадцать дней.
Что-то огненное потекло из соломинки, и он проглотил горьковатую жидкость.
— А дутики? Они реальны или просто являются частью терапии?
— Реальны, но используются для терапии.
— И я действительно убил одного? — Да.