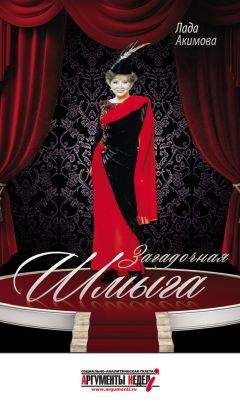И тут Ладога показала свой коварный нрав: недалеко от входа в Неву начался шторм, в общем-то пустяковый для морского лайнера, но осторожные немцы все-таки вошли в обводной канал и далее двинулись по нему. А потому как время поджимало, остановку в Питере отменили и взяли курс сразу в Финский залив. Туристы посмотрели на огни города и на разведенные мосты с борта теплохода, после чего преспокойно улеглись спать. Однако ни капитан, ни команда, ни тем более добровольные лоцманы не смыкали глаз до самого утра, и поскольку в заливе тоже было неспокойно, шли вдоль берега. Сколот слышал, как проходили Сосновый Бор, Нарву, затем Кохтла-Ярве, и скоро ждали Таллин – первый настоящий европейский город за пределами бестолковой России, где даже реки напоминают неведомые марсианские каналы, текут неизвестно куда и даже имеют перекрестки, как на дорогах, – кто-то из туристов сам наблюдал подобный феномен.
Когда же к исходу дня заговорили, что на горизонте показались огни и башни столицы Эстонии, где предполагалась короткая остановка на заправку судна, Сколот высунул голову и увидел сначала Софийский собор, а затем стены новгородского детинца с башней под названием Кокуй. Должно быть, команда тоже разглядела незнакомые очертания города, застопорила ход, промаргиваясь и пережидая шок. Лайнер еще некоторое время по инерции двигался вперед, затем стал медленно сноситься течением назад. На палубах повисло пугающее безмолвие. После чего тишину прорезали истерический крик, громкий всплеск воды и голос, извещающий, что человек за бортом.
У кого-то из туристов не выдержали нервы.
В воду полетели спасательные круги, лестницы, матросы спустили одну из шлюпок, однако утопленника не обнаружили. Двигатели наконец-то включились и стали подгонять лайнер к пристани с белой потемкинской лестницей в гору. На воду пошла еще одна шлюпка, висящая рядом, потащили акваланги, и Сколот не стал более искушать судьбу, открыто выбрался из своего убежища, толкаясь среди молчаливых, окаменевших туристов и путаясь под ногами мельтешащих матросов, сбежал на нижнюю палубу, после чего беспрепятственно спрыгнул на причал. И еще успел поймать брошенный с борта конец.
– С прибытием, лишенец, – язвительно проговорила Дара, ожидавшая, когда пришвартуется судно. – Не хочешь ли осмотреть экспозицию нашего музея Забытых Вещей? Могу предложить специальную, углубленную экскурсию с лекцией о тайнах серебряных зеркал.
Суицидного немца наконец извлекли из воды, однако он рвался назад, в Волхов, и кричал, что желает навек остаться в этой таинственной стране. Его безумные вопли подстегнули парочку влюбленных, которые спрыгнули на пристань и подступили к Даре, требуя политического убежища – мол, нигде более они не будут так счастливы, как в России, где можно потеряться в пространстве и времени, а это и есть настоящая любовь, ныне относящаяся к категории политики.
Экскурсоводша пыталась втолковать им, что обращаться следует к властям, что она не уполномочена решать подобные вопросы, но готова показать им забытые вещи, выставленные в экспозиции музея в зале отношений мужчины и женщины. Влюбленные были согласны на всё и побежали вверх по лестнице, невзирая на призывы своих соотечественников одуматься и не терять рассудка. Никто более не рискнул спуститься на берег, да и команда не позволила бы сделать это. Сколот поплелся следом за парочкой, а лайнер еще некоторое время постоял у причала, давая длинные гудки, словно заблудившийся в лесу грибник, после чего отвалил и взял курс вниз по течению.
* * *
Возвращение в музей, конечно, расстроило Сколота, но не до такой степени, чтобы ввергнуть в отчаяние. Убедившись в очередной раз, что бежать с завязанными глазами да еще в смирительной рубашке бессмысленно, он задался целью любым способом от них освободиться, а выход был единственный – найти общий язык с Валгой. Иногда престарелая Дара подменяла сиделку в зале времени, где стояло и висело множество самых разных старинных часов, и большая часть из них не ходили. Улучив момент, когда схлынут туристы, Сколот наведался в этот зал и напомнил Валге о давней просьбе – починить часы, точнее восстановить утраченный бой.
Дара показала ему высокие напольные часы с четырьмя гирями.
– У них звон был мелодичный. До сих пор в ушах стоит. Запустишь – так и быть, сниму наказание. Ты ведь ради этого вызвался?
Сколот вскрыл корпус, добрался до механизма боя и тут обнаружил, что струны и молоточки в часах отсутствуют. Все остальное есть, а самого главного, что издает звук, нет, и восстановить мелодию практически нельзя, ибо сам он боя никогда не слышал, подобных часов больше нет, а извлечь гармонию звуков из слуховой памяти Валги невозможно! Невозможно даже попросить ее напеть, наиграть мелодию, настучать хотя бы примерный ритм, поскольку старуха глуховата, в последний раз слышала часы полвека назад и воспроизвести бой не в состоянии, впрочем как и узнать мелодию, даже если удастся ее подобрать, испробовав бесконечное число вариаций.
Можно было признаться в этом сразу, оставить бесплодные попытки, и все-таки он остался в зале времени на всю ночь и попробовал сконцентрировать свое желание до критической массы, что всегда приносило положительный результат. Однако проверенный способ в этом случае не годился – тончайшая материя чужой памяти, тем паче слуховой, не подлежала управлению, ибо не поддавалась прямому воздействию извне и не могла войти в совокупление с чувствами.
Неуправляемые материи существовали и относились к явлениям невещественным, как например, обережный круг, вознесенный чьей-то волей над оберегаемым, или проклятие, наказание в виде лишения пути, или любовь.
Сколот закрыл корпус часов, поставил их на место и, не дожидаясь Валги, ушел сдаваться на милость научной сотрудницы музея. А та, явно сговорившись с престарелой Дарой, потребовала исполнить обещание и в тот же вечер повела его в зал зеркал.
Несмотря даже на ночную темень, там всегда были серебристые сумерки, при которых отчетливо виделись окружающие предметы, а если приглядеться, то и собственное отражение. Пожалуй, добрая полусотня расставленных и развешенных зеркал, в том числе и кривых, многажды переламывали незримый свет, падающий из окон, усиливали и рассеивали его по всему пространству зала.
Как только музей закрывался – а в связи с туристическим сезоном это происходило поздно, – Сколот в сопровождении Дары являлся сюда и, не зажигая света, кружился в этом тусклом серебре, заглядывая в зеркала под разными углами.
Они в самом деле хранили тысячи отражений – от мастера, который, проверяя качество, заглянул первым, и до последней туристки из тех, коим нравилось любоваться собой в старинном мутноватом стекле либо подурачиться перед потешными кривыми зеркалами. Но эта бесконечная череда отраженных лиц, запечатленная восприимчивым металлом, не открывалась, как книга, не поддавалась никаким самодельным ухищрениям. Сколот пробовал проникнуть в тайну зеркал, глядя в них в разное время суток, при прямом и косом солнце либо вообще в полном мраке, притаскивал лазерные указки, инфракрасные лампы, даже кварцевую ставил – все, что оказывалось под руками. Делал это по принуждению, чтобы отвязаться от назойливой Дары: будто бы проводил опыты по управлению неподдающейся материей и сетовал на то, что выставленные зеркала слишком избалованы вниманием публики, затерты взглядами, перенасыщены, перегружены информацией, и оттого «зависают», как компьютеры. И осторожно при этом намекал, что, дескать, пора бы сменить экспозицию, вынести из запасников другие, а эти поставить на отдых. Дара проговорилась однажды, что в подвалах музея, согласно описи, есть еще два десятка особо ценных зеркал с богатым историческим прошлым, и есть даже совсем древние, серебряные и бронзовые, изготовленные будто бы персидскими мастерами. Однако без ведома директора нельзя ничего менять, да и входить в хранилище под флигелем может одна лишь Валга, назначенная главной ключницей музея. После того как Сколот выпустил из подвалов Белую Ящерицу, все окна замуровали кирпичом.