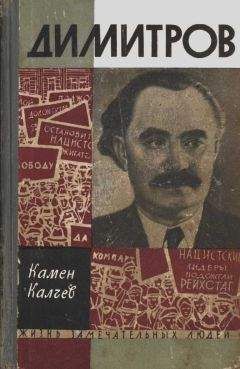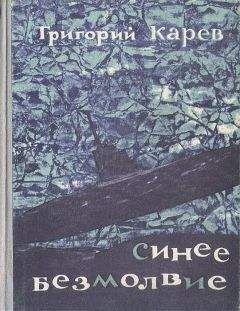Эта женщина-мангус вселяла в душу невыносимый страх. Так мог бы, верно, выглядеть Ледяной Князь московитов, родись он женщиной. Нагая и белая, как снег, она возвышалась посреди океана света и смотрела в огненное зеркало, произнося странные слова. Они были похожи на заклинание, но звучали как приказ, и с каждым словом за спиной белой женщины все яснее обрисовывался иной силуэт, во много раз величественнее и ужасней.
Вот что говорила золотая мангуска:
скалистое поле
молнии мечут славу
две чашки горя
летит фотография птицы
голодное море
города радости
карандаш
зима приближается слева
И с последним словом облик Повелителя, молчавшего за ее спиной, обрел полную определенность.
Но Улаан не успел его разглядеть. Сон сменился. Сияние погасло, исчезла мангуска и ее чудовищный бог. Теперь царевич стоял на улице города, странно знакомого, хотя и непохожего ни на один город, где до сих пор ему довелось бывать.
Здания здесь были выше гор и уходили к самому небу, а невозможно гладкие стены их так сверкали на солнце, будто их изготовили из сплошного алмаза. Улицы были широкими, как площади, а площади напоминали замощенные камнем моря. Тьмы жителей обитали здесь, и их страх колыхался сейчас над крышами невообразимо высоких зданий, как густой серый туман. Слышался запах гари, хотя нельзя было увидеть пожара.
И Улаан увидел танки, входящие в город. Они медленно плыли по улицам и площадям, от скверов к скверам, от фонтанов к фонтанам – казалось, отдельно от них плывет их могучий рев, поднимаясь высоко, опережая ход тяжких тел защитного цвета. Танки вела мрачная воля Летена Московита.
Не просыпаясь, Улаан судорожно встряхнулся и увидел другое.
Тяжелая русская конница разворачивалась в лаву, чтобы смять отступающих степняков, не дать опомниться разгромленному войску. Их гнали и гнали, отмечая путь мертвыми телами, а впереди уже показались юрты куреней…
Улаан проснулся от собственного крика.
* * *
«Папа не может этого не понимать, – думал он в ту ночь, задыхаясь, вспотев под волчьим одеялом. – Даже если он сумасшедший, он не настолько сумасшедший». Ясень направлял Орду так, будто был уверен в победе. Но он должен был знать, что идет навстречу разгрому. Несообразность эта не давала Алею покоя. Отцу до такой степени застит глаза возможность блокировать Предел Летена? Он рассчитывает на то, что у этого мира другая история? Он до такой степени вошел в роль ордынского хана? «Ну хорошо. Пусть даже победа, – думал Алей, кусая пальцы, – но ведь будет бойня! Жуткая бойня. И потом еще десятки и сотни боен, в каждом селе, в каждом русском городе. Блик! Блик! Черт! Господи боже мой, мы же вместе читали эти книги. Его это совершенно не трогает? Потому что мир другой? Но люди – живые! Люди везде одинаково живые…» В родном их мире люди тоже гибли десятками тысяч, но это было далеко – в Африке, на Ближнем Востоке. Это не воспринималось… так резко. Огромные цифры проходили мимо сознания. Не хватало эмоционального опыта. В самой Листве люди тоже гибли во время терактов, но и десяток погибших был большой трагедией. «Папа так хочет уничтожить Летена, что готов устроить бойню? Как будто он родился в Средневековье!» – мысли эти доводили Алея до отчаяния. Он был бессилен что-либо изменить. Отец не нуждался в его советах, даже не звал его для разговора. И в советах Улаана-тайджи Гэрэлхан тоже никогда не нуждался…
Дни шли за днями. Ордынские тумены продвигались к Немясте. Все отчетливей становились окрест знаки приближения земли великих лесов. Прежде в степи встречались курганы безымянных вождей, теперь – затянутые кустарником и полынью, потонувшие в земле развалины древних стен. Чередами волн шли пологие холмы, в распадках бежали ручьи и мелкие реки, а над ними зеленели заросли, рощи, лески. Возле лесков ютились первые урусутские деревни. Жители их были достаточно дерзки, чтобы селиться на самой границе Великой Степи, и достаточно умны, чтобы не дожидаться монгольского войска на своих полях. Почти все деревни оказывались пустыми. Нукеры, что обыскивали дома, возвращались мрачными и злобно сплевывали в ответ на расспросы: нечем поживиться, проклятые урусуты, убегая, забрали все ценное, что смогли. От досады деревни жгли.
Улаан почти не видел отца. Разве что вдали порой можно было различить трепещущие на копьях значки его личной сотни. Оставалось только гадать, о чем думает Гэрэлхан и что затевает он, даром предвидения наделенный не в меньшей, а скорее в большей степени, чем царевич.
…Мало-помалу Алей осваивался в обращении с собственным расщепленным сознанием. Только теперь он осознавал, до какой степени утратил контроль над ним. В первые дни он не мог толком даже отслеживать переключения между личностями. Пусть обе личности принадлежали ему, пусть он не чувствовал никакого сопротивления или отторжения одной из них, но две воли, два опыта, два рассудка не могли гармонично сосуществовать в одном теле. По крайней мере – сразу после совмещения. Частичное слияние ментальностей степного воина-аристократа и рядового айтишника из Листвы порождало мысли и выводы, невероятные в своей нелепости и чудовищности. Так, неизбежная победа русского войска в грядущей битве Алею отнюдь не казалась чем-то удивительным и невероятным: материал школьной программы, о чем говорить? Но Улаана-тайджи эта победа приводила в черное отчаяние. Его эмоции были так сильны, что в конце концов даже Алей начал стискивать зубы при мысли о Немясте. «Ирсубай, – проносилось в уме, – Ринчин. Шоно», – и еще десятки знакомых имен и лиц. Лиц живых, веселых и симпатичных людей, которые навеки останутся на Куликовом поле, изрубленные русскими топорами… Нельзя сказать, чтобы Алей совершенно спокойно принимал то, что по воле отца – или же по какой-то иной, неведомой воле – ему пришлось принять не ту сторону. Но поделать с этим он ничего не мог. Окажись он во стане русских воинов – по-прежнему считал бы себя русским и наверняка бы искренне возненавидел захватчиков, о которых знал из книг и мультфильмов. Но он был одним из захватчиков, другом, командиром и царевичем захватчиков, и волей-неволей личные симпатии и убеждения Улаана-тайджи становились его симпатиями и убеждениями. К тому же Саин-хатун действительно была очаровательной женщиной, а Ирсубай – отличным приятелем…
Алей твердо намеревался добиться полного разделения сознаний. Прежде чем анализировать странную параллель и строить планы побега из нее, надо было разобраться в себе. Порядком неприятно было, начав размышлять о деле, внезапно осознавать себя думающим о добыче, которую можно взять в русских городах. Первой в списке стояла задача определить границы личностей и научиться сменять их по собственной воле.