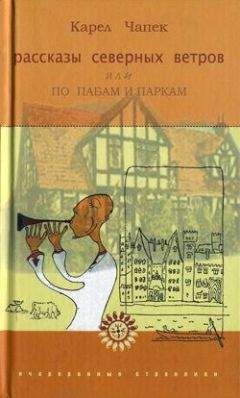Не случайно, философствовал далее Вольф Мейнерт, саламандры начали осуществлять свои жизненные возможности только тогда, когда хроническая болезнь человечества, этого плохо сросшегося, всё время распадающегося гигантского организма, переходит в агонию. Если не считать некоторых незначительных отклонений, саламандры представляют собой единое грандиозное и однородное целое; они не создали до сих пор резких делений на племена, языки, нации, государства, религии, классы или касты; среди них нет господ и рабов, свободных и несвободных, богатых и бедных; правда, между ними существуют различия, определяемые разделением труда, но по существу это однородная монолитная масса, состоящая, так сказать, из одинаковых зёрен, — масса, во всех своих частях одинаково биологически примитивная, одинаково бедно наделённая дарами природы, одинаково угнетённая, с одинаково низким жизненным уровнем. Последний негр или эскимос живет в несравненно более высоких условиях, пользуясь бесконечно большим богатством материальных и культурных ценностей, чем миллиарды цивилизованных саламандр. И тем не менее нет никаких признаков, которые говорили бы, что саламандры страдают от этого. Наоборот. Мы видим, что они совершенно не нуждаются ни в одной из тех вещей, в которых человек ищет успокоения и облегчения от метафизического ужаса и страха перед жизнью; они обходятся без философии, без веры в загробную жизнь и без искусства; они не знают, что такое фантазия, юмор, мистическое чувство, мечта, игра; они насквозь проникнуты реализмом. Нам, людям, они столь же чужды, как муравьи или сельди; они отличаются от этих существ только тем, что приспособились к другой жизненной среде, а именно — к человеческой цивилизации. Они устроились в этой среде так, как устраиваются собаки в человеческих жилищах; они не могут прожить без неё, но от этого они не перестают быть тем, чем они являются: весьма примитивным и мало дифференцированным семейством животных. Они довольствуются тем, что живут и размножаются; они могут даже быть вполне счастливы, так как их не тревожит ощущение какого-либо неравенства. Они совершенно однородны. Они могут, поэтому в один прекрасный день или, лучше сказать, в любой ближайший день без всякого труда осуществить то, что оказалось не под силу человечеству: единство своего вида во всём мире, свою всемирную общину, — словом, всеобъемлющий мир саламандр. В этот день окончится тысячелетняя агония человеческого рода. На нашей планете не хватит места для двух сил, каждая из которых стремится овладеть всем миром. Одна из них должна будет уступить. Какая именно — это мы уже знаем.
Сейчас на земном шаре насчитывается около двадцати миллиардов цивилизованных саламандр, то есть приблизительно в десять раз больше, чем людей. Отсюда с биологической необходимостью и в согласии с логикой истории вытекает, что саламандры, будучи угнетёнными, должны будут освободиться; будучи однородными, они должны будут объединиться; превратившись, таким образом, в величайшую силу, которую когда-либо видел мир, они неминуемо должны будут захватить мировое господство. Думаете, они настолько безумны, чтобы пощадить тогда человека? Думаете, они повторят историческую ошибку человека, который испокон веков ошибался, порабощая побеждённые нации и классы, вместо того чтобы их истреблять? Который из эгоизма вечно создавал новые различия между людьми, а потом из идеализма и великодушия пытался перекинуть через них мост? Нет, восклицал Вольф Мейнерт, подобной исторической бессмыслицы саламандры не допустят — хотя бы уже потому, что они извлекут предостережение из моей книги! Они станут наследниками всей человеческой цивилизации; в их руки попадет всё, что мы делали или пытались сделать, желая покорить мир; но они действовали бы против самих себя, если бы захотели вместе с этим наследством принять и нас. Они должны избавиться от людей, если хотят сохранить свою однородность. Если бы они поступили иначе, то рано или поздно мы заразили бы их своей разрушительной двойственностью: создавать различия и страдать от них. Но на этот счёт мы можем быть спокойны; ни одно создание, которое продолжит историю человека, не станет повторять его самоубийственных безумств.
Нет сомнений, что мир саламандр будет счастливее, чем был мир людей; это будет единый, гомогенный мир, подвластный единому духу. Саламандры не будут отличаться друг от друга языком, мировоззрением, религией или потребностями. Не будет между ними неравенства в культурном уровне, не будет классовых противоречий — останется лишь разделение труда. У них не будет ни господ, ни рабов, ибо все они станут служить лишь Великому Коллективу Саламандр — вот их бог, владыка, работодатель и духовный вождь. Будет лишь одна нация с единым уровнем. И мир этот будет лучше и совершеннее, чем был наш. Это — единственно возможный Счастливый Новый Мир. Что ж, уступим ему место; угасающее человечество уже не может совершить ничего иного — только ускорить свой конец, озарив его трагической красотой, пока и это ещё не поздно…
Мы изложили здесь взгляды Вольфа Мейнерта как можно более популярно; мы знаем, что от этого много потеряла их сила и глубина, которые в свое время загипнотизировали всю Европу и особенно молодёжь, восторженно принявшую веру в упадок и надвигающийся конец человеческого рода. Правда, некоторые политические аналогии побудили германское правительство запретить учение «великого пессимиста», и Вольфу Мейнерту пришлось скрыться в Швейцарию. Тем не менее весь культурный мир с удовлетворением принял теорию Мейнерта о гибели человечества; его книга (в 632 страницы) была переведена на все языки и во многих миллионах экземпляров получила распространение даже среди саламандр.
Очевидно, под влиянием пророческой книги Мейнерта литературный и художественный авангард в культурных центрах провозгласил лозунг: «После нас хоть саламандры!» Будущее принадлежит саламандрам. Саламандры — это культурный переворот. Пусть у них нет своего искусства — зато они не обременены грузом идиотских идеалов, иссохших традиций и того обветшалого, нудного школярского хлама, который назывался поэзией, музыкой, архитектурой, философией или культурой вообще; все это дряхлые слова, от которых нас тошнит. Саламандры ещё не поддались искушению пережёвывать жвачку изжившего себя человеческого искусства — тем лучше: мы создадим для них новое. Мы, молодые, расчищаем путь для будущего всемирного саламандризма; мы хотим быть первыми саламандрами, мы — саламандры завтрашнего дня!
Так родилась в поэзии молодое направление «саламандрианцев», возникла тритоническая (трехтональная) музыка и пелагическая живопись, которая вдохновлялась образами медуз, морских звёзд и кораллов. Работы саламандр по упорядочению побережий были объявлены источником новой красоты и монументальности. Мы сыты природой по горло, раздавались голоса; пусть гладкие бетонные берега придут на место старых живописных скал! Романтика умерла. Будущие континенты будут очерчены прямыми линиями и примут формы сферических треугольников и ромбов; старый геологический мир должен уступить место миру геометрическому. Словом — это было опять-таки нечто новое и футуристическое, новая сенсация духовной жизни и манифеста новой культуры. Те же, кто не успел своевременно вступить на путь грядущего саламандризма, с горечью чувствовали, что остались за флагом, и мстили за это, проповедуя чистую «человечность», возврат к человеку и к природе и прочие реакционные формулы. В Вене был освистан концерт тритонической музыки, в парижском Салоне Независимых неизвестный злоумышленник изрезал пелагическую картину, выставленную под названием Capriccio en bleu.[168] Одним словом, саламандризм победоносно и неудержимо шествовал вперед.