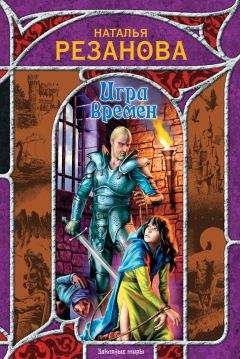– Ты сказала, теперь я скажу. Я начинаю войну со Сламбедом. Я иду на войну, и ты будешь со мной.
– Мне нечего делать на войне. Я не убийца.
– Тебе не будет плохо. Я буду тебя беречь. Я никогда не буду тебя обижать.
– Ты тоже решил, что я испугалась. Но не об этом речь. Я просто не хочу этого больше выносить. Если бы ты знал, чего мне стоит терпение! И если я не причиняю тебе зла, то вовсе не потому, что ты мне мил, а потому, что я никому не делаю зла.
– Я не отпущу тебя. Ты мне нужна.
– Хочешь, чтобы талисман стал камнем на шее?
Верила ли она в свой дар убеждения? Кто знает? Сколько раз ей удавалось то, что казалось невозможным! Но сейчас ей было тяжело. Месяцами сдерживаемая ненависть рвалась к горлу. Лицо Торгерна расплывалось перед ней, и она видела только черную фигуру, закрывающую путь к выходу, к свету.
Но в ответ она услышала:
– До тебя я не жил. До тебя я не знал, что я не жил. Как я могу отпустить тебя? Мы никогда не расстанемся. И после смерти не расстанемся. Если я умру раньше, моя душа будет ждать твою – там.
Что могла она чувствовать, она, обученная всем правилам риторики, слушая это тяжелое и корявое объяснение?
– Мне ничего не нужно, кроме тебя. Мне никто не нужен, кроме тебя. Мне от тебя ничего не нужно. Только чтобы ты была. Здесь. Всегда.
– Это невозможно.
– Можно. Я так хочу, и так будет.
– Нельзя, чтобы так было! Не должно. Я послана в этот мир, чтобы творить добро. А ты – зло! Нам нельзя быть рядом, мы уничтожим друг друга!
Она почти кричала, не думая, что Торгерн не понимает, да и не может понять ее слов. Но то, что произошло, заставило ее замолчать. Этот неукротимый человек бросился перед ней на колени и так, на коленях, пополз к ней, пытаясь поцеловать ее пыльные башмаки. Все это в страшно перевернутом виде напоминало ночь в Тригондуме, но сейчас она не помнила об этом. Жалость и отвращение выразились на ее лице, отвращение и жалость. Она отпрянула к стене, выкрикнув с отчаянием:
– Да не унижайся ты!
Слова ударили как обухом. Она не знала, что он понял, но он поднялся с колен и пошел к выходу. От дверей он обернулся и как-то очень просто сказал:
– Если ты попытаешься меня бросить, я сам тебя убью.
И вышел. Молча, с каменным лицом, она смотрела ему вслед.
IV. Карен
(продолжение рукописи)
…потому что я говорю правду, и противоречия ничего не значат. Я могу привести двадцать объяснений, и все они будут правильными.
Осень подошла, и армия готовилась выступить. Стало быть, я снова оказывалась там, где была полгода назад, хотя и выиграла лето, золотое время. Выиграла? А кому от этого стало лучше? Не мне и никому. Там же? Но ведь я была уже не та. Тогда я была преисполнена надежд – теперь увидела их тщету. Однако осознать свою слабость означает также узнать, где твоя сила.
Но изменилась не только я. Теперь, после нашего последнего разговора, я знала, какие перемены произошли с Торгерном, и были они ужасны. Ужасны, говорю я вам, и в то же время не изменившие его сущности. С виду я снова впадаю в противоречие, но на самом деле это впечатление ложно, и я объясню.
После решающего разговора в Западной башне я могла ожидать для себя самого худшего. Но ничего такого не произошло, в обращении со мной он был мягок, я бы даже сказала – добр, как ни чудовищно это звучит по отношению к подобному человеку, и, размышляя над сим явлением, я поняла – именно отсутствие худшего и было самым худшим! Или точнее – отпущенное на душу Торгерна количество добра и зла не изменилось. Изменилась их направленность. Если раньше доброе и злое в его душе распределялись в мир беспорядочно, то теперь доброе было устремлено к определенному объекту, то есть ко мне. Всему прочему миру оставалось злое. И если раньше для него, как и для всех подобных ему, не было разницы между добром и злом, то теперь он это в себе почувствовал. И ему понравилось быть добрым – как он это для себя понимал (а я понимала еще лучше, чем он), – быть мягким, заботливым и все прощать. (Он меня прощает – да от одной этой мысли можно руки на себя наложить!) И это ему легко удавалось, ибо на других людей доброты не тратилось ни грана. Нужды нет, что он грабил, пытал и убивал – он-то ведь про себя знал, что он добрый! Потому что любовь действительно изменила его, только лучше бы она его не меняла, лучше бы он оставался просто негодяем, так по крайней мере было бы честнее, чем, вволю налютовавшись и назлобствовавшись, приходить и смотреть на меня собачьими глазами (не страшно, когда волк превращается в собаку, страшно это – «меж волка и собаки»), и тратить на меня то, что накоплено за счет всех людей, тем самым превращая меня в соучастницу. Потому что в этом случае любая содержанка – верх праведности в сравнении со мной. Потому что… Но, скажет взыскательный читатель, что за страсть все объяснять? Потому что я взяла на себя слишком большую ответственность, с самого начала объявив нераскрываемость тайны, и ничего более не должно оставаться недосказанным. И здесь речи быть не может о догадках – ход моих мыслей мучительно подтверждался ходом событий. То, о чем я говорю сейчас, основано на событиях не одного лишь времени подготовки к войне, но и дальнейших. Было от чего прийти в отчаяние, и руки у меня опускались, но глаза-то у меня всегда были открыты, и наконец я нашла самое краткое определение относительно сложившегося положения дел. По-настоящему добрым он не стал. И чем больше добра будет тратиться на меня, тем меньше его останется для всех.
Итак, с опущенными руками и открытыми глазами я размышляла, пока не пришел и мой черед собираться в путь.
Но прежде я должна сказать, что привело меня в такое отчаяние.
Выходило так, что разум потерпел поражение, а победило то, что разумному определению не поддается. Это ошибка. Ошибка торжествовать не должна. И необходимость все начинать сначала никогда бы меня не сломила. Другая мысль не оставляла меня с самого отъезда Линетты. Я помогала ей всеми силами, однако усилия оказались напрасны. Линетта ничего не достигла. Но не означало ли это, что я сама этого не хотела? То есть умом я, конечно же, изо всех сил желала, чтоб она добилась успеха. Но где-то там, на дне души… втайне от себя – не ждала ли я ее поражения? Ибо оно означало мое торжество – безобразной над красавицей, калеки над здоровой, простолюдинки над благородной! Неужели я была готова потерпеть поражение как политик, чтобы победить как женщина? Чушь непредставимая! Но это я умом понимала, а там, в глубине… Оно-то и страшно, когда это самое «дно души» оказывается сильнее сознания, и вдруг узнаешь, на что ты способна… и я ли это…
Но это была я, Карен-лекарка, со своей волей, со своим умением достигать желанной цели. Может быть, я лишилась своей силы? Нет. Я видела, что мои желания осуществляются – но лишь дурные желания. Я захотела, чтоб Безухий умер – и он умер. Я захотела, чтоб Линетта подчинилась мне – пусть ради благой цели, но я пожелала власти над человеком, – и она подчинилась. Но внимательный читатель опять же может сказать – ведь это только помышления! Сама я не причиняла им вреда. Но для того, кто должен быть чист душой и телом, и помышления такого рода уже зло. Напрашивается вывод – следовательно, злом было и мое стремление сохранить чистоту? В том, что я хотела быть чистой и творить добро? Это жизнь, жизнь. Выбор только один – жить или умереть, а уж ежели решишься жить, именно решишься, не испугаешься, то жить приходится только среди несовместимого и невозможного. О, я не буду повторять: «Господи, за что, за что?» Все люди несчастны, все! Мое отличие от них лишь в том, что я это знала, а каждый из них полагает, будто несчастен лишь он один. И еще, пожалуй, в том, что большинство из них не ведает, что творит, для меня же недопустимо неведение.