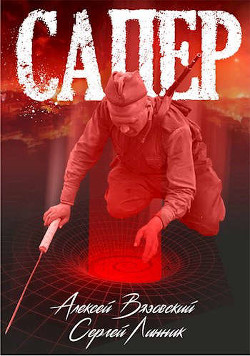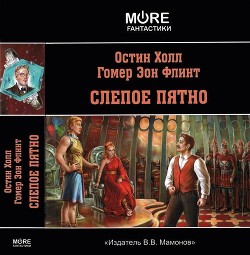Глава 1
В шесть утра резко и отрывисто прозвучали удары в дверь нашего барака.
— Подъем! — закричал дневальный, первым занимая очередь к параше.
Зэки, кряхтя и сплевывая на пол, посыпались со шконок. Солнце едва-едва показало свой краешек в зарешеченном окне. На небе не было ни облачка — день обещал быть жарким.
— Смотри, опять рюхаются, — Пятно кивнул в сторону «политического» угла. Там у нас жили «зеленые братья». Десяток хохлов и прибалтов из УПА, Движения борьбы за свободу Литвы и прочих воинов свободы, которые досиживали свое по 58-й статье.
/Рюхаться — договариваться о криминальном деле на тюремном жаргоне/
— Когти тебе надо рвать, Сапер, или выламываться из лагеря, — сверху спрыгнул Босой, принялся наматывать портянки. — Замочат. Зуб даю, посадят на пику.
Пятно и Босой были моими соседями по шконке. Первый имел большое коричневое пятно на лысой голове, за это и окрестили. Второй вор носил фамилию Босотов. Тут уж сам бог велел ему стать Босым или БосОтой. Последнюю кличку худой, жилистый мужик не любил, сразу лез в драку. Махался он не очень умело, но активно — размазывая кровавые сопли, поднимался с пола, любил использовать грязные приемы.
Я перехватил взгляд Петлюры из «зеленого» угла. Бородатый, квадратный мужик со шрамом через весь лоб провел ногтем большого пальца по шее. Упашники вокруг засмеялись.
— Возьми на себя какое-нибудь дело, — продолжал бубнить Босой. — Отведут в оперчасть, а там ушлют на следствие в райцентр. Или больным скажись…
Из барака вышли двое. Помбригадира потопал к хлеборезам — следить, чтобы те нарезали честно пайки. Бригадир пошел в штабной барак за разнарядкой. Две последние недели мы валили деревья в густом лесу Львовщины — тут начали строить какой-то секретный объект. Обнесли два гектара колючкой, нагнали военных. Кум ходил по лагерю запуганный — по его душу приезжали из Москвы проверяющие. Никаких посылок, писем из дома — зэки жили в полной изоляции.
— Ушлют вперед ногами, — хмыкнул Пятно, натягивая робу.
— Харэ базарить, — оборвал я уголовников, разминая шею. Стычка с торпедами Петлюры могла начаться прямо у параши. Но не началась. Я спокойно оправился, умылся.
У параши уже ругались оба дневальных — кому выносить дерьмо. В барак заглянул Казах.
— Пэ — трэнадцать трэнадцать, — увидев меня, скомандовал надзиратель. — На выход.
— С вещами или….
Я уставился в узкие глаза Казаха. На его безволосом лице не было ни тени эмоций.
— Или…
Мы прошли мимо высокого забора БУРа, миновали больничку. Как оказалось, Босой накаркал. Вели меня через весь лагерь в оперчасть.
/БУР — Барак усиленного режима/
Без задержки повели сразу в кабинет к куму.
— Осужденный Пэ тысяча триста тринадцатый, — начал представляться я, но меня тут же прервали:
— Садитесь, Петр Григорьевич, — молодой, мордатый начальник оперчасти кивнул Казаху на дверь. — Подожди в коридоре.
Надзиратель вышел, я сел на колченогий стул, что стоял у рабочего стола опера. Звали его Подгорным Евгением Степановичем, служил он у нас всего полгода в звании капитана. Трижды мы имели с ним продолжительные беседы, в ходе которых однофамилец известного чиновника из ЦК КПСС настойчиво предлагал мне стучать на сидельцев барака. В первую очередь его интересовали политические.
— Поймите, Петр Григорьевич, — объяснял мне Подгорный. — Зэк вы авторитетный. Не в смысле вор — этих у меня полная картотека — а в смысле уважаемый человек. Все на зоне знают вашу историю, ваши подвиги на фронте и где-то даже сочувствуют. Доверяют вам свои тайны.
— Стучать не буду, — сразу отказался я.
— А стучать и не надо. Надо информировать. И только о самых важных делах. Мелочи меня не интересуют. Например, о подготовке побега. Ведь если уйдут в леса политические — худо будет всем! Стукачей у меня полно, а вот правильных, толковых людей мало!
Кум мягко стелил, заходил с разных направлений. Обещал послабление режима, похлопотать об амнистии.
Я на это лишь криво улыбался. Подгорный листал мое личное дело, притворно качал головой, зачитывая приговор, в котором меня лишили всех воинских наград:
— И этот вопрос порешаем. Сейчас активно идет реабилитация заключенных.
— Ко мне это не относится, я же не репрессированное лицо.
В тот раз надавить на меня Подгорному не удалось. Не верь, не бойся, не проси — старое арестантское правило служило уже многим поколениям зэков. Но сейчас все повернулось иначе.
— Не передумали, Петр Григорьевич? — широко улыбнулся мне кум, запирая сейф. Над ним висел портрет Хрущева, справа от него поблескивал очками Дзержинский, слева хмурился Ленин.
— Я этих гнид на фронте не боялся, а уж сейчас подавно.
— А я слышал у вас конфликт случился с Петлюрой. Да и такой, что теперь вам в одном бараке не ужиться…
Гнида мордатая! Небось он и слил Петлюре мое участие в «Большой блокаде» в составе войск Львовского округа. Нас тогда придавали на усиление подразделениям НКВД — гоняли «лесных братьев» по всей Западной Украине. А самой операцией — я посмотрел на бабье лицо на портрете — руководил как раз Хрущев.
Я откинулся на стуле, закрыл глаза.
* * *
— Именем Украинской Советской Социалистической…, — бубнящей скороговоркой трещал судья. Можно было не слушать, что он там рассказывает — слово в слово повторяет прокурорских. Только одна из народных заседателей, лет пятидесяти, полноватая русоволосая женщина в нелепой блузке со странным, будто перекошенным воротником, почему-то мялась и время от времени смотрела на меня непонятно. Не насмотрелась за время суда, что ли?
—… пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительно-трудовой колонии строгого режима, — наконец, закончил судья.
Я с облегчением вздохнул: за время чтения приговора ноги немного затекли. Молоденький милиционер, стоявший рядом со мной, почему-то очень нервничал при любом моем движении, даже когда я просто переступал с ноги на ногу, и хватался за кобуру пистолета. Наверное, боялся, что я сейчас кого-нибудь разорву и съем. Его, например. Так что стоял я, не шевелясь, а то вдруг паренек с перепугу доберется до пистолета и начнет стрелять куда получится. Случайный рикошет — и мне светит вышка.
Народная заседательница, оказывается, ждала конца чтения приговора, чтобы тихо, когда меня уже выводили, задать свой вопрос:
— Как же так, Петр Григорьевич, как Вы могли? Вы же фронтовик, всю войну прошли…
— Да я, дорогая моя, эту гниду сколько раз нашел бы, сколько и задавил. Потому как раз, что фронтовик.
* * *
Я очнулся от воспоминаний, посмотрел на Подгорного.
— Погоны не жмут, капитан?
— ЧТО?!
— Я говорю, кто ты такой мне предлагать такое? Я до Берлина дошел! Дважды ранен был! Смерти в глаза смотрел — как в твои поросячьи зенки.
Капитан покраснел, подскочил, уже даже рот раскрыл, потом внезапно успокоился, криво улыбнулся:
— Ну ты сам выбрал свою судьбу, Громов. Эй, надзиратель! Обратно в барак его!
Зашел Казах, мрачно произнес:
— Руки заспэну.
Я заложил руки и мы пошли обратно. Солнце уже наполовину вылезло, вокруг пели птички, летали бабочки. Так не хотелось умирать…
— Эх, зря ты, Пэ тринадцаты, злил капитана, — вздохнул за спиной Казах. — Погибнишь теперь.
— Иншааллах, — на автомате произнес я.
— Ээ… Ты арабски знаешь? — удивился надзиратель.
— Да нет, был у нас в роте один мусульманин — чеченец — он постоянно повторял. Как начнут немцы бомбить, так сразу «На все воля Аллаха».
— Сам то в Бога веришь?
— В судьбу верю, — буркнул я, ускоряя шаг.
Казах повел меня не к бараку, а прямо к столовой, где уже к моему удивлению, очереди на входе не было. Заходи и ешь. Я благодарно кивнул ему, поднялся на крыльцо.
Наш отряд был уже внутри, зэки сидели за тремя длинными столами, стучали ложками. Пробираясь через тесноту, от каждой бригады по три арестанта носили на деревянных подносах миски. Обратно уносили пустую посуду. Рядом ошивались «черти» — любители вылизать остатки. Кормили в лагере голодно, едва-едва давали норму, да и ту разворовывали.