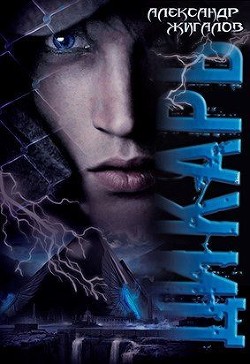по двору, но и по деревне, и пару обыкновенных трупов.
А еще одного вполне живого подонка.
Трупы убрали.
Мужской, предварительно раздев, чему Миха препятствовать не стал, унесли куда-то за деревню. Правда, сперва отрубили голову и руки, что, наверное, имело какой-то смысл. Женский унесли в дом. И двор наполнили стенания.
Завыли, словно очнувшись ото сна, собаки.
В общем, не задался день у местных.
Не задался.
Староста приближался к Михе осторожненько, бочком, с явною опаской. И будь его воля, он бы вовсе убрался, куда подальше. Он сгорбился и произнес сиплым голосом:
— Просим господина барона о милости.
Миха, делавший вид, будто дремлет — как будто кто-то в своем уме мог бы дремать рядом с полуразложившимся телом драгра — приоткрыл глаз.
— Какой? — уточнил он на всякий случай. А то кто ж эти местные порядки знает-то.
— Суда, — староста стянул шапку и прижал к груди. — Суда для этого… этого…
— Будет тебе суд, — ответил за Миху Такхвар, что было, наверное, хорошо.
Суд был.
Устроили его за оградой, там, где к частоколу подбиралась река. И от сизой воды тянуло сыростью, плесенью. Там же, на берегу, поставили лавку, на которую бросили шкуры. На лавке барон и уселся.
Рядом с ним устроилась Ица.
Оба старательно не смотрели друг на друга, отчего отчаянно хотелось отвесить по затрещине. Думать надо, прежде чем пасть разевать.
Думать!
И вообще молчание — золото. Особенно там, где каждое слово может быть воспринято высшими силами превратно. А ведь главное, кого винить? Некого.
И потому барон гляделся мрачным. А может, не потому, а по причине выпитого накануне. Или от всего и сразу. В общем, по барону было видно, что жизнь аристократа — тяжела и мучительна.
За спиной его устроился Такхвар. Миха же отошел чуть в сторону, чтобы видеть всех.
Старосту.
Стол.
Покойницу на столе. Омытая, принаряженная, гляделась она до жути живою, и Миха не мог отделаться от чувства, что и эта того гляди встанет. А потому несколько нервно сжимал рукоять добытого клинка. Кривоватый, тяжелый и какой-то грязный с виду, тот был каким-никаким, а оружием.
Староста.
Сыновья старосты. Мрачны и сосредоточены. И на барона взгляды кидают такие, будто бы это он виноват. Женщина, та самая, которую ночью Миха и не разглядел. Молодая. Наверное. Но бледное вытянутое лицо. Серые одежды. И сама она тоже сера, только губы шевелятся, то ли молится, то ли проклинает. Единственным ярким пятном — синяк на скуле.
Деревенские.
Этих много. И стоят в отдалении. Им не столько страшно, сколько любопытно. Для них и суд, и то, что ночью случилось, скорее развлечение. С развлечениями тут туго.
А вот и еще один участник.
Стар.
Идет сам. Руки стянуты за спиной. К шее привязана веревка. За веревку — две оглобли. И обе держат деревенские мужики. Крепко держат. С немалым знанием дела. Этак до них и не дотянешься.
Он и не собирается.
— Милости, — начал староста, когда подвели сына, которого он не удостоил и взгляда. — Господин барон.
— Говори, — голос Джера прозвучал глухо и как-то даже торжественно.
Сообразно моменту.
— Взываю о милости для моей покойной супруги, доброй женщины, что прожила со мною сорок лет. И видят боги, я берег её. А она берегла моих сыновей. И во всем селе не отыщется того, кто скажет, что была она дурною женою или плохой матерью.
Деревенские зашумели, загалдели.
Спектакль.
И все-то тут заранее известно. Но желание поучаствовать сильно.
— А ныне ночью была она убита. И кем? Тем, кому сама жизнь дала! Будь он проклят!
— Будьте вы все прокляты! — взревел Стар, дернувшись было. Но веревки натянулись, и крик перешел в хрип.
— Убьете, — заметил Миха, но кажется, никого это не смутило.
— Тако же обвиняю его, — голос старосты дрогнул, но он с собою справился. — Что, мыслями подлыми обуянный, он вступил в преступный сговор супротив нашего барона и властителя.
Стар зарычал.
— Тем самым презрев волю мою, своих братьев и закон, единый для всех.
Стар сплюнул, но плевок повис на разбитых губах.
Злой.
И жаль его немного. Эту бы злость да в мирных целях.
— Волей его в дом наш пришли враги. И ежели бы не чудо, богами явленное, изничтожили бы они и гостей дорогих, — староста не поленился согнуться до самой земли, верно, показывая, как сильно ему эти гости дороги. — И меня, и сынов моих, его братьев, и всех кто жив был.
Дальше было скучно.
Староста вызывал людей. Сперва сыновей, которые мрачно рассказывали, до чего коварен оказался Стар, а они сами-то и не догадывались.
После всякий другой люд.
Солнце поднималось выше. День делался жарче. Гнус активней. А представление, названное судом, скучнее. Все и без того понятно.
Пришибить недоумка и только.
— Слова! — хрипло рявкнул Стар, когда очередной местный, то ли кузнец, то ли бондарь, то ли какой еще важный представитель сельского истеблишмента, закончил сбивчивую речь на тему «как все любят барона и не любят предателей». — Я требую слова!
Народец загудел.
Тоже притомились. Барону вон поднесли кувшин, как Миха надеялся, с водою, а не похмелиться. Остальные же без помощи маялись.
— Говори, — разрешил мальчишка.
— Да что он скажет! — староста, кажется, неожиданному повороту сюжета не обрадовался. — Он лжец! И убийца! И…
— Пусть скажет, — а барон умел, оказывается, смотреть по-баронски, так, что староста взял и заткнулся.
— Ты называл меня сыном, — Стар дернулся и вдруг показалось, что вот сейчас он поведет шеей и сбросит веревочные петли. Руки напряглись. Вздулись мышцы. Миха даже почти услышал, как трещат веревки. — Но ты никогда не давал мне забыть, чей я на самом деле сын! Ни ты, ни вы… все тут!
Простая история.
Обыкновенная, как Миха подозревал.