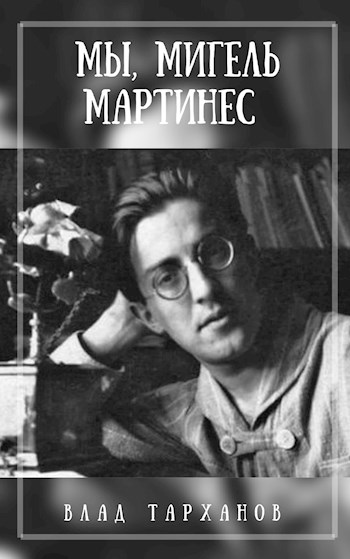Потом мы остановились. Скрипели какие-то ворота. Но где мы оказались, я опять был в неведении. Мы куда-то шли, поднимались по лестнице, потом пошли вниз, еще ниже, скорее всего, это было подвальное помещение. Во всяком случае, скрип дверей, или вот этот звук, скрежет металлической решетки, это ни на что хорошее меня не наводило, какая-то тюрьма? Я терялся в догадках. А потом мне развязали глаза. Я очутился в небольшой комнате, точнее, всё-таки камере, в которой не было даже намека на окна, с тяжелой металлической дверью. Из обстановки: стол с лампой под зеленым абажуром, два стула, табурет, на столе — пепельница и несколько листов бумаги. На одном из стульев сидел молодой человек в командирской форме, впрочем, мне он почему-то напомнил какого-то врача, а не военного, было в нем что-то неуловимо напоминающее доброго доктора Айболита, разве что бородка клинышком только намечалась, видимо, для придания солидности возрасту.
— Товарищ Кольцов, что же вы так нас разочаровываете, где же папка?
— Простите, товарищ…
Но собеседник своего имени называть не собирался.
— Товарищ Некто… Неужели вы думали, что я отдам папку каким-то дешевым исполнителям, которые могут просто из жадности, забрать себе мой гонорар?
— То есть, вы решили перестраховаться?
— Конечно же. Но сначала я хотел бы видеть свои деньги.
Доктор Пилюлькин[3] (назову его так, чтобы легче было ориентироваться в пространстве) посмотрел на меня неодобрительно. Очень неодобрительно.
— Миша, вы до сих пор нам не доверяете? Как же это скучно, на самом-то деле… Хорошо, одну минуту.
Он встал, постучал в дверь, открылось неприметное окошко. Я не слышал, что он там шептал, но примерно через пять минут дверь открылась и в неё вошёл человек в форме красноармейца, который внёс тяжёлый кожаный портфель. Там были деньги. Часть, как я и просил, царскими золотыми пятирублевками и нашими червонцами, часть — бумажными деньгами. А ещё там была выписка из банка о зачислении на мой счёт в швейцарском банке суммы в английских фунтах стерлингов.
— Наслаждайтесь! — не без какой-то брезгливости в голосе произнёс Пилюлькин. Я изобразил широкую улыбку человека, который получил желанное, вышло что-то подобное тому типу, что схватил колечко и шептал «Моя прелесть»[4]. Моего визави передернуло еще раз. Я же произнёс.
— Ровно в полдень в депутатском зале Киевского вокзала будет сидеть мой человек. Узнать его просто: невысокого роста плотный товарищ, в сером костюме-тройке, с пенсне, у которого левое стекло будет треснутым. Спросите его, Михаил Михайлович, вы привезли документацию по славянскому гарнитуру? Он скажет, что привёз, но ему не дали ни копейки командировочных. Вы дадите ему деньги.
При этих словах Пилюлькин еще больше скривился, решил, что я от жадности хочу поиметь с них еще немного, жмоты хреновы. Я им такой компромат. А они над каждой копейкой трясутся! Ладно, хрен с вами. Из моих уже денег достаю пять сотенных купюр, протягиваю их собеседнику, спрашиваю:
— Закурить не найдётся? Вы же мой портфель реквизировали?
Тот достает мой портфель и протягивает из него пачку папирос. Я затягиваюсь и продолжаю:
— В портфеле бланк командировочного удостоверения. Дадите ему расписаться, отдадите деньги, забираете папку с документами. Всё.
— Надеюсь, вы пока побудите с нами? — подозрительно вежливо интересуется Пилюлькин.
— Конечно, пока вы не удостоверитесь, что документы подлинные. Как мы и договаривались.
— Отлично.
Ряженый краском вышел из комнаты, оставив меня в допросной наедине с деньгами. Я очень бережно стал перекладывать пачки с деньгами и столбики с золотыми монетами к себе в жёлтый портфель. Опять-таки старательно корчил умилительные гримасы, а вдруг как-то за мной наблюдают? Вскоре мой собеседник появился опять.
— Вы не откажетесь со мной побеседовать, пока суть да дело? — почти елейным голосом проворковал он.
— Отчего же? Время-то надо как-то убить, простите за столь смелый каламбур.
Впрочем, Пилюлькин не растерялся. А чуть кривовато усмехнувшись, вытащил из кармана золотую монету на цепочке. И тут же стал оной медленно раскачивать перед моими глазами.
— Вы знаете, что простейший маятник, который я вам демонстрирую, прекрасно успокаивает нервную систему. Смотрите внимательно, сейчас на счет пять… Один, два, три, четыре…
Бля… что это за хрень творится в этой Москве, куда ни ткнись, на гипнотизеров наткнешься! Что за мать вашу так очередной последыш Бехтерева нарисовался? Хорошо, что Смирнов с Куниным помогли мне в гипнозе разобраться и научили, как ему противостоять. Еще лучше было то, что я был где-то готов к тому, что могу на такую бяку напороться. В МОЕМ времени и самоубийство Аллилуевой, и убийство Кирова имели очень странные моменты. Казалось, что кто-то настойчиво нашептывал Надежде идею самоубийства, а вот поведение того же Николаева, убийцы Мироныча, так вообще очень походило на поведение человека, находившегося под гипнозом. Мог ли с ними кто-то работать? А почему бы не тот же доктор Пилюлькин? Блин! Что я раздумываю, мне надо какой-то бок поставить!
— Пять! Ваши веки становятся тяжёлыми, вам хорошо, вам спокойной, вы спите, вы спите на море. Пляж, солнце. Вам хорошо, вы будете отвечать на мои вопросы, а потом забудете о нашем разговоре.
Чёрт возьми! Моё сознание как будто погрузилось в какое-то густое желе. И всё-таки видел его, этого доморощенного мозголома, но видел не отчётливо, мозг мой всё больше погружался в сон, но вот этого допустить никак нельзя! Я старался как-то смыть с себя его слова, которые… Смыть! Вот оно! Вспомнил… Это всплыло, как всплывает аварийный буек с тонущего корабля.
В ту ночь, когда Москву обшарил первый ливень,
Я, брошенный к столу предчувствием беды,
В дрожащей полутьме рукой дрожащей вывел:
«Дождь смоет все следы, дождь смоет все следы».
Слова, мелодия, всё вместе, они образовали защитную плёнку, я повторял этот куплет, повторял, и моя импровизированная защита становилась более прочной. Сквозь эту плёнку я понял, что в камере появился кто-то еще. Он спросил:
— Готов?
Я эти слова разобрал как слова из далека. Как сквозь вату или поролоновую ткань. Они доходили глухо, но смысл был понятен.
— Смотрите…
Картинка как-то изменилась, я теперь видел только стену, это что, меня уронили на пол? А почему я ничего не чувствую? Хотя, вроде, под гипнозом и не должен. Тут картинка снова изменилась. Опять передо мной был тот же эскулап, доставший зажигалку, понятно, сейчас мне прижжет руку. Что делать, если сморщусь от боли, мне конец.
Четырежды падут все вехи и устои,
Исчезнут города, осыплются сады,
Но что бы ни стряслось, тревожиться не стоит,
Дождь смоет все следы, дождь смоет все следы.
А хорошо, чувствую, как этот дождь смывает боль. Держу покерфейс. Мог бы пошевелиться? Нет, не чувствую такой в себе силы. Ну и так будет здорово.
— Хорошо, товарищ Здравобредов, я вижу. Перейдем к вопросам и ответам.
— Слушаюсь. Кольцов, ты чекист?
— Нет.
— На кого ты работаешь?
— На Новую оппозицию.
— Что это за группа?
— Это группа товарищей, не довольных Сталиным.
— Кто в неё входит?
Ведь время — тоже дождь, который вечно длится, Который не щадит ни женщин, ни мужчин. Он хлещет наугад по крышам и по лицам, По инею волос и кружевам морщин.
И сколько б ты не жил, в какой бы не был силе, И кто бы не склонял тебя на все лады, И сколько б не вело следов к твоей могиле— - Дождь смоет все следы, дождь смоет все следы.
— Я не могу сказать…
— Кто входит в неё! Имена!
— Идиоты, я не могу сказать имена, не имею права!
— Говори!
— Слабак! Ничего не скажу…
— Может быть, ему пытки применить?
— Авель… простите, думаю. над ним кто-то поработал, не менее талантливый, чем я. У него стоит блок. Пытки ничего не дадут, он, скорее умрёт, чем назовёт кого-то.