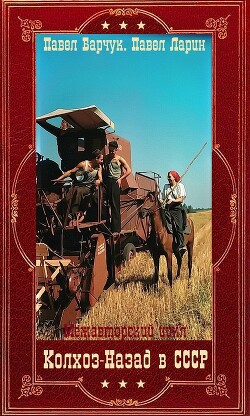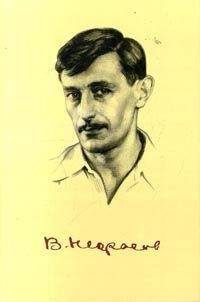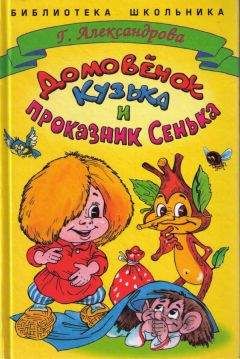— Господи, ну, зачем так орать…
Мой вопрос, само собой, остался без ответа, потому что в комнате никого кроме меня не было. Я потянулся, приподнялся на локтях, пытаясь славиться с мыслями. В башке моментально взорвалось — чемодан!
Я подскочил на месте, перевернулся на бок и заглянул под кровать
— Фух, блин… Стоит, родненький…
Чемодан был на месте. Там, куда я его засунул. Вообще, честно говоря, когда укладывался спать, возникла мысль положить его возле стенки, прямо в постель. Правда я эту мысль сразу же пинками прогнал из своей головы. Совсем крыша поехала с этим дурацким чемоданом!
И главное, хрен пойму, почему? Я вообще никогда не относился с таким фанатизмом к вещам. Даже к тем, в которых лежит до хрена денег. По идее, я вообще должен хотеть совсем наоборот, избавиться и от чемодана, и от бабла. Почему? Да потому что, твою мать, 1946 год совсем не располагает к личному обогащению и процветанию.
Я эти деньги не смогу ни использовать, ни показать кому-то, ни потратить тупо на бытовые блага. А в этом городе — особенно. У меня такое ощущение, здесь на одном конце чихнешь, а на другом через минуту скажут, что ты обосрался. Да еще приукрасят подробностями и деталями.
А вот наличие у капитана Волкова, скромного фронтовика, такого баблища вызовет вопросы. Причем, вовсе не у горожан или соседей.
Я напряг память, вспоминая, кто, если что, придёт задавать эти вопросы. НКВД или какой-нибудь СМЕРШ? Военный человек все-таки.
С другой стороны, кто бы не пришёл, я потом очень долго ни с кем не смогу разговаривать по причине своего отсутствия в мирной жизни и присутствии в местах не столь отдалённых. Это — в лучшем случае. А так-то, вполне возможно, что вообще запишут в предатели и к стеночке отправят. Поэтому, для любого нормального человека в моей ситуации, чемодан с деньгами — большая проблема. Так чего же я за него ссусь кипятком? Ответа, к сожалению, нет. Зато есть четкая, намертво укоренившаяся в башке, мысль — чемодан надо беречь.
Я посмотрел на часы, которые лежали рядом с подушкой. Снял их с руки перед сном, чтоб не мешались.
— Твою мать…
Стрелки однозначно намекали, время еще очень раннее. Если говорить более точно, половина восьмого утра. Половина! Восьмого! Утра!
Я подтянул одеялко, спрятался под него с головой и попытался снова уснуть. Однако, в этом доме, похоже, свои правила. И самое главное правило — если проснулась тетя Мира, а один из голосов принадлежал именно ей, то хрен вам, товарищи жильцы, нормального сна. И главное орала она так громко, так вдохновенно, с такой самоотдачей, что у меня складывалось полное ощущение ее присутствия прямо под окном. Впрочем, отчего же под окном? Не нужно умалять достоинства этой женщины. У меня складывалось ощущение ее присутствия прямо в комнате, рядом с моей кроватью.
— Циля, ты делаешь мене нервы! А мама уже не молода. Маме надо покою. Товарисч доктор! Товарисч доктор! Шо ви имеете сказать моей неблагодарной дочери?
— Мира Соломоновна, я вообще предпочитаю не вмешиваться в чужие семейные дела. — Ответил незнакомый мужской голос.
Я даже удивился. Неужели в этом царстве безумных женщин, главная цель которых, судя по тому, что я наблюдаю второй день, изжить друг друга со света, а заодно и всех, кто окажется рядом, присутствует еще кто-то мужского пола, кроме меня.
— Видишь, Циля, даже у товарисча доктора нет слов на твою черную неблагодарность. А товарисч доктор имеет седые виски и совесть. Слишишь, Циля⁈ Совесть!
— Мама!
Я так понял, что второй женский голос принадлежал той самой дочери, которая с точки зрения тети Миры сильно нуждалась в муже.
— Я кончу себя! Ви не даете мене жизни!
— Циля, отнеси нашему новому соседу лепешки, он таки не виноватый, шо ты не имеешь мозг, а потом кончай себя, сколько хочешь.
Словосочетание «новый сосед» заставило меня напрячься. Очень надеюсь, что речь идет не обо мне. Потому что во-первых, я хочу спать. Во-вторых, я не хочу ни лепешек, ни Цили.
Мне бы подремать, еще хотя бы пару часов. Просто вчерашний разговор с начальником отдела по борьбе с бандитизмом оставил слишком глубокую психологическую травму и от стресса я долго не мог заснуть. Думал, оставлял, прикидывал.
Когда грабители со скоростью заправских спринтеров исчезли за деревьями, майор потащил меня вглубь аллеи.
— Так оно будет надежнее. Нам есть о чем поговорить и лучше ежли в приватной обстановке. Да убери ты свой чемодан, капитан! — Выругался Сирота, в который раз получив ребром упомянутого предмета по голени.
Просто я тащил его в левой руке, а с той же стороны топал майор. Чемодан качался, поворачивался то одним углом, то вторым, и периодически бился о начальника отдела по борьбе с бандитизмом, будто у него, у чемодана, к начальнику отдела имеются какие-то свои личные счеты.
— Извините, товарищ майор. — Я убрал раздражающий фактор в правую руку.
— Так, давай-ка по делу. Времени мало. Та и лучше, шоб нас пока вместе не видели. Сейчас, в темноте не разглядят. Но рисковать не будем. Значится, смотри. Дела у нас, шо говорится, держите меня семеро. Пока у городе были фрицы, вся местная шпана, и мелкая, и посерьёзнее, помогали подполью. Тут не дать, не взять. А теперь, когда мы устряпали пинка под зад этим фашистским гадам, люди сильно расслабились. Так расслабились, шо уголовный розыск уморился напрягаться. Хуч спать не ложись. Как ночь, так — на тебе, майор Сирота, подарочек. Виной тому не то́кма послевоенная разруха, но и, вишь какое дело, сильная засуха. А сильная засуха это шо?
Майор остановился и посмотрел на меня, будто я непременно должен знать ответ. А я ответа не знал, потому что не видел связи между засухой и разгулом криминала. Я вообще не в курсе, как влияют на бандитизм погодные условия.
— Шо? — Переспросил вслед за мйором с его же интонацией. Ничего другого в голову не пришло.
— Засуха, капитан, это неурожай. Ты сам откудова будешь то?
— Из Москвы. — Ответил я на автомате, и тут же слегка занервничал. Черт, почему сказал, из Москвы? Нет, сам то я реально оттуда. Родители переехали еще до моего рождения. Но хрен его знает, где жил Волков.
— А-а-а-а-а… Ну, ото ж оно и есть. — Сирота удовлетворённо кивнул. Типа, что с вас, с москвичей, взять. Охренеть… То есть этому стереотипу много лет, получается. — Запасы продовольствия у нашем городе с гулькин хер. А гулькин хер с энтого ракурса означает нехватку продуктов. А нехватка продуктов шо?
Майор снова остановился и снова посмотрел на меня. Прям как на экзамене, честное слово. Знал бы, подготовился.
— Шо? — Я воспользовался уже проверенной схемой.
— Энто, капитан, волна бандитизма. И катит она вперед, как море при шторме. На рынке за одну буханку хлеба можно выручить сто рублей. Сто! И еще факт. А факты, шоб ты понимал, вещь настырная. Тут вишь какое дело… — Сирота поморщился. Ему явно не очень нравилось то, что предстояло произнести вслух. — Есть такая история…но… В бандиты подались бывшие фронтовики. Вот какое дело… Не сумели найти себя в мирной жизни, можно сказать… На войне то оно понятно было. Впереди — враг. За спиной — родная земля. И на шагу назад. А тут…
Майор покачал головой, поцокал языком и опять остановился, задумавшись.
Мы уже полчаса ходили с ним по аллее туда-сюда. В процессе своих риторических вопросов или вот таких размышлений, Сирота просто тупо замирал на месте. Столбом. Со стороны это смотрелось, будто два очень странных человека ведут себя, как дураки. Делают несколько шагов и останавливаются, глядя друг на друга. Потом снова делают и снова останавливаются. А один дурак еще и с чемоданом, от которого уже рука отваливается, если честно.
Самое интересное, больше никто не совался на эту аллею. Мы, правда, ушли в самую глубину, но дальний ее край, где светил одинокий фонарь и начиналась главная парковая дорога, было видно хорошо. И вот за все время беседы лишь один раз трое парней характерной наружности двинулись вроде в нашем направлении. Видимо, им со стороны фонаря не было видно, кто именно шатается по этой чертовой аллее. Однако один из граждан вдруг замер, вытянув шею вперед, а потом приподнял кепку и громко сообщил всем, кто мог его услышать. Иначе на кой черт было так орать.