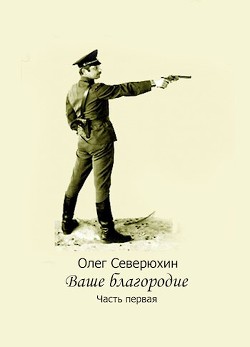Офицер стул подобрал и в меня кинул. Сам вслед за стулом скакнул, и прямой мне в лицо.
А он хорош. Отклонился я, пропустил его руку, ухватил чувака и на пол кинул. Сам сверху упал, и на болевой.
Офицер извивается, хрипит слова всякие нехорошие. Девчонки вокруг стоят, слушают, но ничего, не возмущаются.
— Пусти, сволочь! — офицер хрипит. — Дерись как джентльмен!
— Я же полицейская морда, — отвечаю.
— Ах, господин, отпустите его, — запищала одна девица. — Вы ему руку сломаете!
Другая тоже:
— Ох, пожалейте Митюшу! Он пьян, он не нарочно!
— Пусти, — рычит офицер Митюша. — Я тебе всю рожу филёрскую разобью. Только пусти…
— Я офицер полиции, — говорю. — Твой чин не выше моего.
— Врёшь, иуда! Тварь… а-а-а!
Выкрутил я ему руку, Митюша заткнулся. Больно, ясен день.
— Сейчас я тебя отпущу, — говорю. — Бери свою даму и вали отсюда. И дружков своих забирай.
— Да я… да я тебя в порошок сотру, ублюдок… да ты знаешь, кто я…
— А мне плевать, чей ты сынок и сколько у тебя денег, — говорю. Разозлился я, аж в глазах темно. Ублюдком обзываются, черти. — Не успеешь. Я тебе прямо сейчас ноги переломаю. Побегай на брюхе, пожалуйся.
Притих он, а тут и вышибалы прибежали. Во главе со старшим официантом.
— Господа, господа! — кричат. — Подите остыньте, господа! У нас приличное заведение!
Отпустил я дурака. Дружки его стоят, шатаются, сопли утирают. Девчонки к ним прилипли, отряхивают, щебечут что-то.
Моя Генриетта меня под руку взяла, нос задрала — вот у меня какой кавалер, лучше всех!
Тот, что в бриллиантовых запонках, расплачиваться поковылял. Вместе с табакерочным. Ко мне метродотель пристал было, но Иванищев ему на ухо пошептал, тот отстал сразу. Сам репортёр всю драку сидел себе за столиком, в блокноте черкал карандашиком. Вот ведь хмырь.
— Дмитрий Александрович, — шепчет мне Генриетта. — Вы мой герой. Поедемте ко мне домой. На всю ночь.
— А ваш покровитель не против будет? — спрашиваю. Злой я после драки. Не остыл ещё.
— Ах, мне всё равно. Сегодня я только ваша. Совершенно бесплатно. Вы Николя побили. За это вам скидка.
— Как это?
— Он мой кот. Колотит меня, руки распускает, подлец. Так что поделом ему. Ну, что вы стоите? Поехали!
— Погоди… — что-то я не понял. Этот, с табакеркой — её сутенёр? Вот так дела. — Он же тебе отомстит теперь? Бить будет?
— Нет, Дмитрий Александрович. Не дурак же он. Это Николя при других полицию ругает.
— Но ты…
Генриетта смеётся, заливается. Глаза блестят, лицо раскраснелось. Конечно, там шампанское с порошком намешаны. Как она ещё на ногах держится.
— Ах, что вы, мой друг! Я ему сказала, кто вы. Николя меня пальцем теперь не тронет. Он людей Рыбака боится до смерти…
Обалдел я. Стою, рот разинул.
— Рыбака? — спрашиваю. — Ты его знаешь?
— Ну конечно, — девчонка хихикает, — знаю! И вы его знаете… Вы же с ним… Ах-х-х….
Генриетта подавилась словом. Захрипела, схватилась руками за горло. Зашаталась, глаза помутнели. Покачнулась и упала, как выключили.
Девчонки, подружки её, завопили. Одна в обморок грохнулась. Другая руку вытянула, пальцем на мёртвую Генриетту показывает.
— Заклятье! Заклятье на молчание! — пищит.
Смотрю — на лбу Генриетты рисунок проявился, как чернилами нарисованный. Рыба с разинутым ртом. Проявился, почернел и растаял. Будто не было.
Глава 15
Вот только что ты с человеком разговаривал. Шутил, смеялся. И вдруг бах — нет его. Не шутит, не разговаривает — мёртвый лежит. А ты стоишь, смотришь на него. Чувство такое, будто у тебя кусок отрезали. Вроде руки-ноги на месте, а чего-то не хватает.
Вот так стоял я, смотрел на Генриетту. Красивая, лежит на полу, рука под щекой, ножки в туфельках из-под платья видны. Будто спит. Но не живая совсем.
Стоял как столб. На вопросы какие-то отвечал. Врач пришёл, посмотрел, сказал: паралич сердца. Мгновенная смерть. И с намёком на стол с шампанским глянул — типа, излишества всякие нехорошие. Они до добра не доводят.
Подружки порыдали, платочками утёрлись. Меня по очереди обняли, в щёку чмокнули. Потом взяли своих кавалеров под ручку и ушли. Офицер Митюша всё руку помятую баюкал, всё топтался рядом, пока тело на носилки укладывали. На меня косился, будто что-то сказать хотел. Потом тоже ушёл.
Репортёр Иванищев времени зря не терял. Вокруг вертелся, весь блокнотик свой карандашом исписал.
Новый блокнотик вытащил, стал меня на интервью раскручивать. Как там с Генриеттой у нас было. Дамы читать про такое очень обожают. В газетах и журналах разных. Когда драма, страстная любовь. Девушка мёртвая, изящный кавалер, всё такое… Послал я его, не очень вежливо.
Потом понял, что иду по улице — сам не заметил, как снаружи очутился. Пару кварталов так с разгону и прошагал.
Подышал морозным воздухом, в себя немножко пришёл. Подхватил с обочины снега горсть, растёр лицо. Снег растаял сразу, потёк сквозь пальцы. Отряхнул я руку и задумался.
Это что же получается? Генриетта умерла. Отчего? Паралич сердца, сказал доктор… А что такое паралич сердца, инфаркт, что ли? Да с чего бы?!
Подружка её тогда крикнула: «заклятье на молчание!» Ещё пальцем показала. Потому что на лбу у Генриетты знак проявился. На секунду всего, но я запомнил. Рыба с разинутым ртом. Чернильного цвета. Как магическая печать.
А значит… Это значит, Генриетта много знала. Ничего удивительного — девчонка с богатенькими дядями шуры-муры крутила. Вот чтобы не болтала, ей заклятье и поставили. Здесь такое делают. Сам видел. Да мне вон тоже сделали — когда я у Филинова в личной охране работал. На верность.
Слышал, так алкоголиков зашивают. Чтоб не пили. Чтобы человек знал — если выпьет, всё. Так и здесь — кого закляли, тот знает, и помалкивает. А Генриетта проболталась. Потому что шампанского выпила лишку. Да ещё порошок этот гадский, что Николя всем раздавал. Чтоб его…
Жаль девчонку. А ещё жаль, что имя Рыбака она сказать не успела. «Конечно, знаю, и вы его знаете» — вот что сказала. И умерла.
Выходит, мне этот Рыбак знаком. Может, он Генриетте заклятье и поставил. Ну, не сам, конечно, а за деньги. Может, она с ним тоже в постели кувыркалась.
Ох ты ж ёлки зелёные! Ведь папик её, которому она со мной рога понаставила, карьером каменным владеет. У него же того динамиту как грязи… И конкурентов этот папик ненавидит, аж кушать не может… Что ему стоит одну девчонку заклеймить, если он целый вокзал из выгоды грохнул?
Схватил я ещё снега, лицо потёр — так разволновался. Бежать, скорее бегом на квартиру Генриетты! Засаду устроить на этого гада. Он заявится, а я такой: опа! Сюрпрайз! Ну-ка сознавайтесь, гражданин, в какое место паровозу динамит засунули? И в лицо ему глянуть…
А ещё за руку при этом хорошо бы схватить. Может, повезёт, и я видение словлю. Как в прошлый раз в подвале. Даже если гад не признается, начальству доложить, а там голубчика раскрутят. Дело-то государственное. Не отвертится.
Чувствую я, что маленько мозги у меня переклинило. Что-то не так в моих догадках. Но думать некогда — бежать надо. Вдруг этот гад из ревности, что Генриетта со мной в театр пошла, на квартирку решит нагрянуть. А там мои люди… то есть гоблины. Гоблинка-медичка и мелкий пацан Микки. Что с ними будет?
Хорошо, что дом был недалеко. Я мигом домчался. Взбежал по лестнице, горничная мне открыла. Увидела меня, ахнула.
— Дмитрий Александрович…
— Некогда, Анюта. Где моя гоба?
— Дмитрий Александрович!.. — горничная меня за рукав хватает, глаза испуганные.
— Анюта, твоя хозяйка умерла.
— Я знаю, Дмитрий Александрович!
Забежал я в гостиную. Всё как раньше — стол под скатертью, на скатерти лампа под зелёным абажуром. У стены диван, возле дивана на полу подушки разбросаны. Как в прошлый раз, когда мы с Генриеттой на ковёр свалились…
— Здравствуйте, сударь. Вот и встретились.