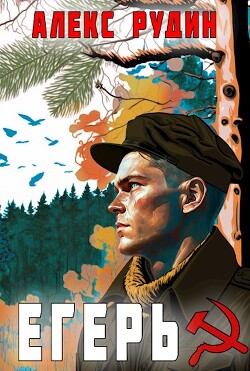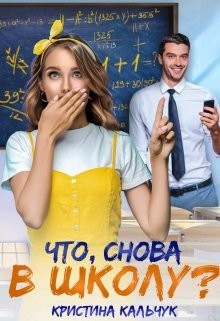Но ещё я помнил, как час тому назад вылез на остановке из красно-белого «Икаруса», который шёл из Ленинграда в Сясьстрой. В салоне было душно, даже короткие шторки на окнах не спасали от солнца. Рядом со мной сидела полная женщина в трикотажной кофте с коротким рукавом. Она всё время обмахивалась газетой.
За окном побежали частные дома с заборами из облупившегося штакетника. Потом показалась труба котельной и теснящиеся возле неё кирпичные двухэтажки.
— Киселёво, — объявил водитель в микрофон.
Я вышел из автобуса. С удовольствием вдохнул тёплый летний воздух, который показался мне удивительно свежим после духоты автобуса.
Вытащил из багажного отсека свои пожитки — битком набитый рюкзак, большой чемодан из фибры, обтянутый дерматином и мою гордость — новенькую вертикалку ИЖ-27 в брезентовом чехле.
Водитель закрыл багажный отсек. Автобус мягко тронулся по шоссе в сторону Старой Ладоги.
Я посмотрел ему вслед, привычно закинул за спину тяжёлый рюкзак. Чемодан взял в одну руку, ружьё, для равновесия — в другую. И пошёл по шоссе назад, под гору — туда, где от асфальта отходила просёлочная дорога на Черёмуховку.
Мне нужно было прошагать десять километров, чтобы добраться до деревни, где я теперь буду жить и работать.
Что такое десять километров для молодого парня?
Стоп! Молодого?
Я помотал головой. В затылок снова ударила резкая пульсирующая боль. Я поморщился, осторожно поднялся на ноги побрёл к машине. Водитель, забегая вперёд, бормотал:
— Парень, ты куда? Эй! Егерь! Слышишь меня?
Не обращая на него внимания, я посмотрел в овальное зеркало заднего вида на двойном кронштейне.
Из зеркала на меня изумлённо глядел смутно знакомый парень, лет двадцати пяти. Светлые волосы были зачёсаны назад непокорным чубом и открывали высокий лоб, на котором кровоточила здоровенная припухшая ссадина. Кровь запеклась даже на бровях. Коротко подстриженные виски открывали чуть оттопыренные уши. Серые глаза широко раскрылись от удивления.
Мать честная! Это что, я? Молодой?
Но какой тогда год?
Двадцать пять мне стукнуло как раз в восемьдесят пятом . Но в восемьдесят пятом году я работал бригадиром путейцев на Октябрьской железной дороге в родном городе Волхове. И на дороге в Черёмуховку вполне мог очутиться. Я охотиться сюда ездил. Пока страна не затрещала по швам и не развалилась.
В девяносто втором я уволился с железки и подался искать счастья в Ленинград, который к тому времени успел стать Петербургом. Окончил учебный комбинат на Гражданском проспекте и устроился водителем в третий троллейбусный парк. Где и проработал тридцать лет до самой...
До самой чего? Смерти, конечно!
Несколько минут назад я держал руками тяжёлое колесо. Потом резко кольнуло в сердце, и я потерял сознание. А очнулся на просёлочной дороге, в теле парня, похожего на меня в молодости.
Что это, если не смерть? Кома? Галлюцинации?
Какая, к чёрту, кома при сердечном приступе?
И при чём тут «Икарус» из Ленинграда? Рюкзак с чемоданом? Ружьё?
— Парень, ты в кабину залезть сможешь? — спрашивал за спиной водитель. — Давай, я помогу! Сейчас, к фельдшеру тебя отвезу. Пусть она твою голову посмотрит!
Он осторожно подталкивал меня в спину. Подчиняясь ему, я поставил на высокую подножку ногу в крепком кирзовом сапоге.
Это что — я в такой обуви в автобусе ехал? Из Ленинграда?
— Давай, парень, садись! — упрашивал за спиной водитель «ЗИЛа». — У меня время поджимает!
Я ухватился правой рукой за горизонтальную ручку, которая была намертво вварена в металлическую «торпеду» автомобиля. Подтянулся и сел на короткий двухместный диванчик, обтянутый рваным кожзаменителем.
Водитель сунул мне мокрую тряпку и с грохотом захлопнул дверцу. Обежал вокруг огромного капота, запрыгнул на водительское место.
Завёл рычащий двигатель, посмотрел на меня.
— Напугал ты меня, егерь! Ну, поехали, что ли?
Он воткнул рычаг переключения скоростей. Машина дёрнулась и покатила по дороге, подпрыгивая на кочках.
Я оглянулся и через пыльное заднее стекло увидел в пустом кузове рюкзак, чемодан и ружейный чехол.
Летнее солнце порядком раскалило кабину. Крутя тугую ручку, я опустил боковое стекло. В воздухе закружилась мелкая жёлтая пыль.
Я повертел в руках тряпку, выискивая на ней место почище. Нашёл, и прижал этим местом тряпку к ссадине. Фельдшер, конечно, её промоет и забинтует. Но пока ни к чему, чтобы пыль загрязняла рану.
Водитель пошарил в бардачке. Вытащил оттуда смятую газету.
— Приложи. Газета быстро кровь останавливает.
«Сельская жизнь». Номер от двенадцатого марта 1971-го года. «К севу — полная готовность!» — прочитал я заголовок на первой полосе.
Газета, конечно, не новая. Мятая, в жёлтых пятнах. Но и то, что ей почти двадцать лет — не скажешь.
Я оторвал кусок внутренней полосы и прижал к ссадине. Всё же чище, чем тряпка, которой неизвестно что вытирали.
Водитель достал из кармана спецовки пачку «Примы» и спичечный коробок. Стукнул пачкой о тонкий обод руля, выбил сигарету. Сунул её в зубы и ловко прикурил, отпустив руль. Протянул пачку мне.
— Будешь?
Я машинально взял квадратную картонную коробку. Один угол аккуратно надорван — чтобы сигареты не высыпались в кармане. Стукнул пачкой о ладонь. Одна сигарета наполовину выскочила.
Давно забытые ощущения, а руки помнили.
Я аккуратно покатал овальную сигарету в пальцах, чтобы табачные палки не проткнули тонкую бумагу. Сунул размятую сигарету в рот, чиркнул спичкой, прикурил. Язык защипало от горьких табачных крошек.
Дым смешался с пылью. А водитель только улыбался, подпрыгивая на сиденье.
— Тебя как звать-то, егерь?
«Сергей» — подумал я.
— Андрей, — сам собой опередил меня язык.
Почему Андрей?
— А меня Володей, — улыбнулся водитель и протянул мне руку. Ладонь у него была широкая, не по размеру фигуры, и жёсткая — из-за мозолей и заживающих порезов. Машинное масло въелось в кожу, делая её смуглой. Пальцы пожелтели от табака.
Я пожал руку Володи.
— Значит, егерем к нам? — продолжал расспрашивать водитель. — На лето?
Видимо, мы с ним уже успели начать разговор, пока на дорогу не выскочил тот злосчастный кабан.
— Угу, — неопределённо промычал я и сделал вид, что очень озабочен ссадиной.
Чёрт бы побрал это деревенское любопытство!
— Сбежал, значит, из города? — не унимался водитель. — Деревню любишь?
Я вдохнул поглубже и закашлялся от едкого табачного дыма. В затылке стрельнуло, на глазах выступили слёзы.
— Не куришь, что ли? — рассмеялся водитель.
— Так,— прохрипел я. — За компанию.
В прошлой жизни я так и не бросил. Хоть и давление шалило, и сердце побаливало. Думал — чего там бросать? Всю жизнь курил.
Вот и докурился, видно.
А Андрей, похоже, табаком не баловался.
— А я вот как привык с детдома — так и курю, — словоохотливо пояснил Володя. — Мать в войну умерла — меня в детдом отправили. Там курить и научился.
Стоп! Какая война? Володе на вид лет сорок, не больше! Если сейчас девяностый — значит, родился он в пятидесятом. Война уже пять лет, как закончилась.
Или сейчас не девяностый год?
Мы въехали в деревню. «ЗИЛ», не сбавляя скорости, нёсся по единственной улице между просторно стоявших домов.
От рубленого колодца, над которым высился журавль, шла молодая женщина в ситцевом платье. На загорелом плече она несла коромысло с двумя полными жестяными вёдрами.
Володя посигналил ей. Женщина коротко кивнула и пошла дальше.
— Михална, — бросил Володя. — Жена нашего агронома. Здесь они живут, в Сарье. Хотя в Черёмуховке им квартиру предлагали! А вот облюбовали деревенский дом, и всё тут.
Слово «квартира» Володя произнёс с плохо скрываемой завистью.
Ага! Значит, это Сарья — деревня на половине пути от Киселёво до Черёмуховки.
А где-то недалеко есть лесное озеро, на котором я пару раз ловил похожих на головешки, почерневших от торфяной воды окуней.