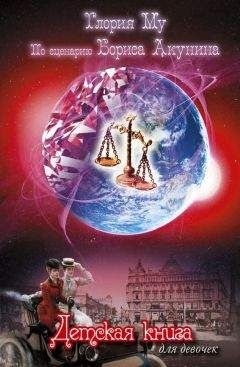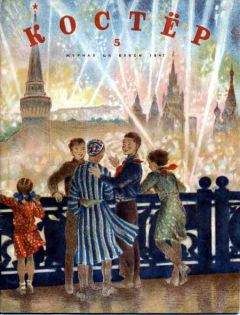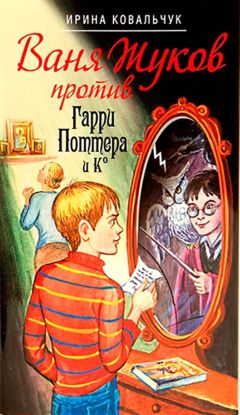— Ладно. Поедем к этой, как ее, бабе Ясе, — и Геля улыбнулась самой милой улыбкой, на которую только была способна.
— Не дойти мне самоходом, — поддержал ее Шкряба, жалобно глядя на Щура.
— Шут с ним, — решился упрямец, — где она, коляска ваша?
Геля огляделась. Коляска стояла там же, где она ее оставила, чуть поодаль. Девочка помахала извозчику, и тот подъехал к самой церкви.
— Вдвоем мы его поднимем? — спросила Геля у хулигана. Тот отрицательно качнул головой:
— Сам.
Подхватил все же Шкрябу на руки и, задыхаясь от натуги, потащил.
— Подмогнуть? — забеспокоился сердобольный извозчик.
— Сам, — упрямо пропыхтел Щур, подсаживая мальчика в коляску.
— Дак что, куда? В морозовскую али в ольгинскую?
— В больницу не поеду! — снова крикнул Шкряба.
— Поедем, куда скажешь, — успокоила его Геля. — Куда вас, кстати, везти?
Щур хмуро посмотрел на нее и буркнул:
— «Утюг» знаете?
— Э, нет. Прощенья просим, барышня, на Хитровку не поеду. Разденут, разбуют и пустят голым бегать — обнакновенное дело. Вылазь, шкет, или давай до больницы, — запротестовал извозчик.
— Он боится, что из больницы в приют заберут, — сказала Геля, стараясь разобраться, что к чему. Про Хитровку папа (Николас) рассказывал — там одни бандиты живут. А Рындин (тоже теперь папа) вроде как там работает (то есть служит). Хитровская рвань и босяки — это, значит, они и есть. Ага…
— Это, канешно. В приюте оно не мед, — задумчиво протянул извозчик, поглядывая на мальчишек с искренним сочувствием. Щур насупился, покосился на Шкрябу, который забился в самый угол кожаного диванчика, и неохотно проворчал:
— Не тронут тебя на Хитровке, дядя, не боись.
— Полюбил волк кобылу, жаниться обещал, — хмыкнул тот.
Щур окинул его долгим оценивающим взглядом. Потом вдруг улыбнулся во весь рот и заговорил — не так, как прежде — будто нехотя, а бойко и даже весело:
— Не тронут. Ты чего ж, не знаешь, кого возишь?
— А мне что, у кажного пачпорт спрашивать?
— Скажешь тоже — пачпорт, — усмехнулся босяк и хитровская рвань. — В пачпорте разве ж что дельное пропишут? Ты меня спроси, я тебе все в лучшем виде растолкую. Эта барышня, — он указал на Гелю широким жестом, словно они стояли на сцене, — Аполлинария Васильевна, родная дочка самого доктора Рындина! На Хитровке его очень обожают, потому как святой человек.
— Так уж и святой, — усомнился извозчик.
— А то. Ежели кто нуждается — так никому от него отказу нет. Ни самой голытьбе завалящей, ни фартовым, ни даже беглым, кто в розыске. Очень он докторской присяге верный. Ни черта не боится, никем не гнушается, лазит хоть в подвалы Кулаковские. Сам видал.
— Ой ли? Да как же его, сердешного, не порезали, тама же такого отребья, прости-осподи…
— Я ж тебе толкую — святой человек. Большое уважение ему от обчества за это. Да и поди его, порежь — он боксом своим аглицким кому хошь харю разворотит. Вона было раз, Корень на него попер по пьяному делу. Как доктор зарядил ему с вертухи в дышло, так Корень опосля неделю по всему Подкопаевскому зубы собирал. А в позатом годе, обратно же, по пьяни, Яшка Поваренок свою маруху поучил, да малость перестарался. Мало что ребра переломал, так до нервенной горячки забил. Сестра у ней была, побежала за доктором. Тот маруху Яшкину канпрессами обложил, микстуры влил какой-то, а на Яшку сильно осерчал. Нашел его — Поваренок в «Сибири» догуливал — и давай палкой по всему трактиру гонять. Палка у него знатная — по виду такая, как господа для форсу носят, с серебряным набалдашником, а внутри свинца залито — тяжеленная, страсть! Загнал Яшку в угол и охаживает. Как руку сломал, Яшка ажно протрезвел — что ж вы творите, кричит, нет на это вашей юрисдикции людям кости ломать! Доктор ему: «Кости — что, я сломал, я и починю. А тебе вперед наука будет, как женщинов до полусмерти забивать. Я-то думал, ты хоть вор, а не совсем пропащий, а ты, выходит, почти до мокрого дела, мерзавец, докатился!» И заново палкой его — хрясь!
— Эх! — азартно выкрикнул извозчик, хлопая себя по колену.
Мальчишка важно кивнул:
— Такой уж он, господин Рындин. Золотое сердце, святая доброта. Кажная хитровская собака ему за это уважение оказывает и сильно обожает. Никто до Аполлинарии Васильевны пальцем не коснется.
— Вона как! А собой он каков, доктор энтот? Богатырь? — с жадным интересом спросил извозчик.
— Не, собой не так чтоб видный, — ответил Щур с явным сожалением. — Ежели не знаючи глянуть, то чистый шпак — стекляшки-усишки-котелок. — И тут же строго добавил: — Но это видимость одна у него обнакновенная. А по сути — святой человек.
— В стекляшках да котелке? Дак я его сегодня возил! — обрадовался извозчик. — Святого человека! Говоришь, по кулачному делу он мастер?
— А то. Вот еще было…
Геля откашлялась и ядовито сказала:
— Прошу прощения, что прерываю столь увлекательную беседу. Но в коляске сидит раненый мальчик, которого хорошо бы отвезти домой. Вы, дяденька извозчик, согласны помочь?
Дядька сдвинул шляпу на нос, почесал затылок, махнул рукой:
— Что с вами делать? Поехали!
Сидели тесно, бедняжка Шкряба подвинулся, чтобы дать Геле место, и тут же сдавленно заскулил, задев Щура ушибленной рукой.
— Пустяки, ты на плечо мое обопрись, — сказала Геля. — Вот, у меня леденцы, хочешь?
Гадостным лакомством угостила не со зла, просто ничего другого не было. Но мальчик напихал конфет за щеку и зачавкал вроде бы даже с удовольствием.
Щур сидел, отвернувшись, спасибо и то не сказал. Подумаешь, очень надо, ха.
Геля тоже отвернулась — смотреть по сторонам куда интереснее.
Маросейка сплошь была забита магазинчиками, лавками и кофейнями. Вывесок разных — тьма. Тут тебе и «Элеонора» какая-то, и магазин хрустальной посуды Дютфуа, а в большом сером доме — книжная торговля И. Д. Сытина и К°. Геля усмехнулась, вспомнив вечную ругань на тему «Как реклама и вывески уродуют историческое лицо города».
Но главное-то чудо было впереди — за сквером с памятником героям Плевны возвышалась громадная белая стена.
Китайгородская! Ильинские ворота — настоящие, а не одно название, как в ее Москве, величественные, с шатровой башней. За ними виднелась большая церковь, тоже незнакомая, — надо будет обязательно сбегать, посмотреть.
Пока спускались по Лубянскому проезду, Геля изо всех сил старалась сидеть смирно, не подпрыгивать и не вертеться, чтобы не беспокоить Шкрябу, но волновалась ужасно. Только когда свернули к Солянке — выдохнула.
Вот он — home, sweet home[4]. На месте, миленький, хорошенький домик ее дорогой!
И все оглядывалась на знакомые стены, пока не свернули в Подколокольный.
«Это уже Хитровка? Или еще не Хитровка?» — не могла понять Геля.
Подколокольный, если сравнивать с ее Москвой, выглядел так даже и получше — дома не стояли в зеленых сетчатых паранджах, а то, что немножко ободранные, — так кого этим удивишь?
На самой площади, правда, особенно около угловой двухэтажки, бомжей было как на Курском вокзале и пахло тоже не очень, но кто бы стал поднимать столько шума из-за поездки на Курский вокзал? Вот тебе и страшная Хитровка, нет, подумать только!
Лошадка остановилась у дома, похожего на кусок пожухшего, несвежего торта — узкий его конец выходил прямо на площадь.
Щур выкатился из коляски, протянул руку Шкрябе:
— Давайте его сюда, Аполлинария Васильевна, и ехайте себе.
— Даже не надейся, я с вами пойду, — твердо ответила Геля. Она была полна решимости вызнать, где живут мальчишки. Кроме того, следовало осмотреть Шкрябу, чтобы понять, насколько серьезно он пострадал. Ну ладно — настояла из чистого упрямства. А чего он раскомандовался, Щур этот?
Поддерживая мальчика с двух сторон, вошли в дом, с трудом поднялись по темной лестнице. Чтобы не упасть, Геле пришлось хвататься свободной рукой за волглую стену. Щур же ничего, шел уверенно. К счастью, никого не встретили — девочке подумалось, что и обитатели этого дома должны быть склизкими и страшными, как тараканы.
Свернули налево, обогнули какой-то выступ, и Щур с силой пнул отсыревшую дверь.
Оказались в большой комнате с закопченным потолком, похожей, скорее, на склад, чем на человеческое жилье. Большую часть помещения занимали какие-то, как показалось Геле, грубо сработанные стеллажи, занавешенные с одного бока пыльной рогожей. На стеллажах, насколько она могла разглядеть, лежало заскорузлыми кучами грязное тряпье. Окон в комнате не было, в свободном углу стоял голый сосновый стол, окруженный старыми стульями и криво сколоченными табуретами. На столе — бутылка с воткнутой в нее оплывшей свечкой — и больше никакого света, так что остальные углы терялись во мраке.