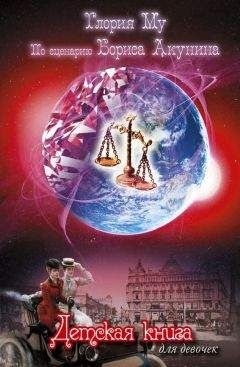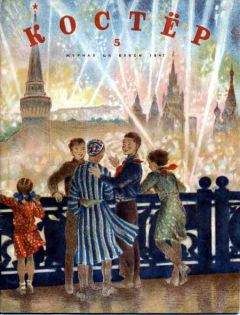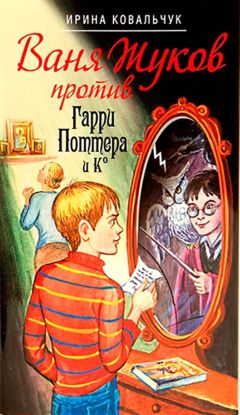Усадили раненого на табурет. Геля, отдуваясь, стащила грязные перчатки — они ужасно запылились, кроме того, Шкряба хватался за них липкими от леденцов ручонками.
Огляделась и вздрогнула — из куч тряпья на широких полках полезли дети. Дети!
Все — мальчишки, и все маленькие, не старше девяти лет.
Сгрудились вокруг, один, тонкошеий, обритый наголо, развязно спросил:
— Энто что за кралю ты привел, Щур?
Щур молниеносно, как кошка лапой, съездил ему по затылку:
— Язык придержи. Аполлинария Васильевна — дочка доктора нашего.
— Рындина? С полицейской части? — спросил другой, крепкий и весь квадратненький, как сундучок.
— Его. Шкрябу лошадью зашибло на Покровке, да так, что идти не мог. А она, вишь, выручила. На коляске довезла.
Детишки, все как один, выжидательно уставились на Гелю, и девочка, слегка оторопевшая от всего увиденного, опомнилась. Так, что она собиралась делать? Ах, да. Докторская дочка. Должна осмотреть раненого.
Подошла к Шкрябе, ласково сказала:
— Надо снять пальтишко. Я тебе помогу.
Мальчик безропотно поднялся, и Геля стала расстегивать ему пуговицы — короткого пальто? пиджака? тужурки? — не разберешь, такой ветхой и поношенной была одежка.
— Барышня, шли бы вы уже. Восвояси, — кислым голосом произнес Щур. — Доставили мальца, и будет с вас. Дальше мы сами.
— Света мало. Есть у вас еще свечи? — не обращая внимания на его слова, спросила Геля.
— Не баре, чай, по сто свечек жечь.
— Тогда посветите мне кто-нибудь. Вот ты, — обратилась она к квадратненькому.
— Ишь, и точно — чисто Василь Савельич командует, — покрутил головой тот, но послушался — поднес свечку поближе.
Щур молча нырнул куда-то в темноту, а вернулся, как ни странно, еще с двумя свечами.
Зажег от первой, сразу стало светлее.
Геля завернула рукав рубахи неопределенного цвета и похолодела — предплечье распухло, и при малейшей попытке дотронуться Шкряба еле сдерживал крик.
— У него, похоже, закрытый перелом, — испуганно сказала она, — надо наложить шину.
— Баба Яся… — начал было Щур.
— Баба Яся твоя сама его к доктору отведет, если не дура. Народными средствами тут не поможешь, нужно зафиксировать сломанную кость в правильном положении, а то рука срастется криво или вовсе отвалится, — припугнула на всякий случай мальчишек.
Подействовало.
— Я не хочу без руки! — жалобно завопил Шкряба.
— Значит, так, мне нужны две ровные дощечки, горячая вода, чистых тряпок побольше и водка, — приказала Геля и сама себе понравилась — вот молодец, голос уверенный, никто не усомнится в ее знаниях и умениях.
На самом деле, как накладывать шину, она знала лишь теоретически (из интернета, откуда же еще) и ужасно боялась. Статью об оказании первой помощи Геля выучила наизусть на всякий случай, из-за своей стыдной трусости, а вот ведь пригодилось.
— Дак чего делать-то, Щур? — спросил тот, лысый, что обозвал Гелю «кралей».
Верзила насупился. Закусил губу.
— Делай, что велит, — буркнул наконец. — К Люсьенке сгоняй. Она баба добрая, и чайник кипятку даст, и тряпья. Да шкалик не забудь. И чтоб бегом мне!
Геля сидела, привалившись боком к столу, и повторяла про себя порядок действий при наложении шины. Но ждать и правда пришлось недолго.
Дверь стукнула.
— Споро обернулся, — похвалил Щур. — Принес?
— Обязательно принес! — Однако из полумрака вынырнул совсем не тот мальчик, что побежал за кипятком. Этот был маленький, щекастый и, наоборот, лохматый как зверушка.
— Аж два с полтиной набросали у Николы Большого Креста. Принимай, что ли, Щур, да не забудь бабе Ясе словечко за меня шепнуть.
— Молодец, Хива. Остальные тож давайте. — Щур подтянул один из табуретов поближе к столу, уселся. — Не ровен час, баба Яся возвернется, а у нас хабар несчитан. Будет нам на орехи.
Мальчишки стали подходить по очереди, выкладывать на стол деньги — большей частью медяки. Щур аккуратно все пересчитывал и ссыпал в старый кожаный кошель.
Мальчика, который принес меньше рубля, отругал, но обещал прикрыть в последний раз — добавил ему из «хабара» Хивы.
Когда тот взъерепенился, жестко сказал:
— Позабыл, как третьего дня с пустыми карманами вернулся? Ежели б я от других тебе не нащипал, отведал бы ты пряников березовых. Пондравилось бы?
Еще несколько раз девочка с надеждой оборачивалась на дверной стук, но приходили другие мальчики, а лысого все не было.
«…пострелята хитрованские попрошайничают — промысел у них такой», вспомнила Геля Аннушкин рассказ. Ага, вот она куда попала — в притон к попрошайкам. А этот дурак у них за старшего. Н-да, просто умереть-уснуть.
Вернулся лысый, приволок большой чайник с кипятком, две старые, но чистые нижние юбки (судя по размеру, эта Люсьенка была не только доброй, но и очень толстой) и дощечки, явно в прошлой жизни бывшие каким-то ящиком. Из кармана же извлек бутылку с мутной жидкостью.
Геля понюхала — до слез прошибло. Ладно, все равно.
Подошла к Шкрябе и взялась за дело. Было так страшно, что даже руки перестали дрожать. И очень хорошо — она спокойно, шаг за шагом, выполняла заученную инструкцию:
— облила предплечье мальчика вонючей водкой (было написано — наложить стерильную повязку, а где ее, стерильную, взять?);
— обернула несколько раз полосой ткани, оторванной от юбки, чтобы мягко было и дощечки не причиняли неудобства;
— расположила дощечки (как раз хватило на всю длину предплечья) с двух сторон и плотно обмотала еще одной полосой ткани так, чтобы держались крепко, не ерзали.
Шкряба все терпел, как настоящий герой, а вот у Гели от страха ныло под ложечкой — рука у мальчика ужасно посинела и распухла, а внутри временами как будто слышался противный скрип.
На все про все хватило одной юбки — еще и осталось, чтобы перевязь соорудить.
Промыла и обработала остатками водки страшные ссадины на щеке и на плече (рукав рубахи пришлось оборвать к чертовой матери — все равно весь был в жестких пятнах засохшей крови).
Разогнулась, утерла со лба липкий ледяной пот. Все.
От мысли, что сделала что-то неправильно и Шкрябе станет только хуже, сердце прыгало к горлу и мешало дышать. Подумала — плакать нельзя; надо сейчас же ехать к папе, но силы совсем кончились, пришлось сесть на табуретку (одну минуточку посижу и поеду).
Вдруг огоньки свечей тревожно заметались, по дощатым стенам поползли пугающие тени, а от двери пахнуло гниловатой, болотной сыростью. Послышались тяжелые шаги, сопровождаемые мелким, дробным постукиванием, будто барабашка пробежал, и в круг света из темноты надвинулась грузная фигура, замотанная в какую-то неописуемую рвань.
Жуткие седые космы выбивались из-под платка, повязанного по-цыгански, а огромные, круглые, выпученные глаза горели дьявольским огнем. В одной руке существо сжимало суковатую палку, а в другой — грязный узел.
По-звериному быстро вертя головой, жуткоглазое существо произнесло неожиданно тонким и (вполне ожиданно) мерзким голоском:
— Чую, чую, господским духом потягивает! Ктой-то тут? Кого привели, кандальники, собачьи дети?
— Это дочка доктора Рындина, бабуся, — отозвался Щур. — Шкрябу лошадью задавило, а она помогла его до шалмана доставить.
— Мальчика нужно немедленно показать врачу, — сиплым от страха голосом сказала Геля. — Я наложила шину, но это временная мера. Рука может неправильно срастись. Кроме того, если все-таки попала инфекция, он может серьезно заболеть. И даже умереть.
— Можно, я до Василь Савельича пойду? — захныкал Шкряба. — Или хоть до фельшерицы, в Орловскую?
— Не ори, вытри сопли. До свадьбы заживет. Ишь, чего захотел, дохтура ему! Тоже королевич выискался! — прикрикнула старуха. Повернулась к Геле и насмешливо проговорила: — Рука отсохнет — так больше подавать будут. А и помрет — невелика трата.
Постукивая клюкой, подошла ближе, так, что девочка смогла рассмотреть — старуха самая обыкновенная, просто высокая, толстая и ужасно грязная. Выпученные круглые глаза оказались всего лишь кожаными автомобильными очками-консервами с треснутым стеклом. Однако в сочетании с лохмотьями очки почему-то производили жуткое впечатление, тем более что за стеклами беловато поблескивало что-то влажное, страшное, никак не походившее на обычный человеческий взгляд. Слепая! Она просто слепая, бедняжка. Старуха тем временем придвинулась совсем близко и прошипела:
— Милая барышшшня! Ссссладенькая пармская фиялочка! А вот я тебя сейчас поцелую за доброту, за ласссску!
Геля, объятая ужасом и отвращением, отшатнулась, а старуха гнусно захихикала и заковыляла к столу. Поставила на него свой узел.