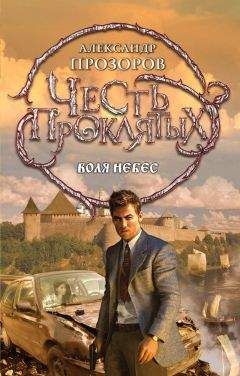Самые храбрые из воинов Делагарди перебегали через мост со всех ног, надеясь на удачу, – и большинству это удавалось. Но заставить своих солдат идти колоннами барон уже не мог.
Струги поначалу стреляли ядрами по толпе врагов, потом по небольшим группкам, потом просто по свейскому лагерю, а когда пороховой туман дополз до моста на полсотни саженей – пушки неожиданно стали бить по самому мосту, причем картечью. Чугунная дробь стремительно разлохматила носы ближних кораблей, настил, борта, и вскоре мост начал тонуть, а потом – еще и разорвавшись – развернулся течением вдоль протоки.
Перебежавшие на остров свеи поняли, чем это окончится, и поторопились сдаться.
Через день, двадцатого октября, барон Делагарди погрузился на уцелевшие корабли и уплыл.
Через месяц Иоанн Васильевич получил от короля свейского Юхана письмо, в котором тот пообещал вернуть все завоеванные русские земли в обмен на мирный договор…
* * *
Призванного из поместья подьячего Басаргу Леонтьева государь принял в опочивальне, глубоко утонув в перинах и, несмотря на жарко натопленную комнату, под толстым ватным одеялом. Царевна Ирина, что сидела рядом, отпустила руку царя, наклонилась к нему, прошептала:
– Боярин твой важский здесь, приехал, – после чего встала и ушла, не дожидаясь на то указания. Все уже давно знали, что с подьячим Монастырского приказа Иоанн предпочитает беседовать наедине.
– Садись… – передвинул руку на край постели царь. И нежданно задал непостижимый в своей невероятности вопрос: – Скажи, Басарга, почему ты никогда мне не изменял?
– Но… Но как можно?! – только и выдавил боярин.
– Можно. Всем можно, все изменяют. Все, всем, всегда. Сколько себя помню, всегда изменяли мне слуги. Ребенком был – Шереметьевы, Шуйские, Бельские, ровно над выродком, изгалялись. Царем стал – присягнули все, крест целовали повиноваться, а все едино козни строили, обманывали, лгали. Подумал я, в знати и князьях вся беда, нужно иных людей подле себя собрать. Храбрых, честных, лучших. Собрал избранную тысячу, а она тотчас за места передралась. Опять я перебрал людишек, собрал окрест себя равных меж собою, крест на братство меж собой целовать заставил, волей Божией осенил, обителью братской нарек. Десяти лет не прошло – и вновь равные меж собой за места перегрызлись, супротив друг друга стали заговоры плести, мне изменять, с князьями земскими равняться… В церкви христовой благости искал – а они вовсе хуже псов грызутся, места делят, по головам друг друга вверх лезут. Дал им митрополита честного, душой чистого, мест не искавшего… За два года сожрали! Куда глаз ни брошу, одно и то же вижу: ложь, обман, измены, подлость, воровство. В миру, в церкви, в слугах. Один ты наособицу. Посему знать хочу: что в тебе не так? Почему ты мне не изменяешь?
– Зря ты на слуг своих наговариваешь, государь! Много округ тебя людей честных, ни делами, ни помыслами не оступившихся! Дмитрий Хворостинин, Михайло Воротынский, Малюта Скуратов, Дмитрий Годунов, Борис тоже…
– Ну, Скуратова и Воротынского спрашивать поздно, Годунов больно молод еще, судить рано, Хворостинин в походах по три раза на год… – перечислил Иоанн. – Можно, знамо, и спросить. Но от тебя, Басарга, твой ответ я все едино хочу услышать!
– Не столь я чист, как тебе кажусь, государь, – опустив голову, повинился подьячий. – Бывало, серебром от меня подрядчики откупались. На Филиппа наговаривал, с княжной всех обманывал, волю твою исполнять не спешил. Люди меня, вон, чуть не за подвижника святого считают, за старания обитель возродить, за приют сиротский, что содержу столь старательно, за милостивца бескорыстного. А в том приюте – дети мои незаконные растут!
– Помнишь ли ты слова Создателя нашего, боярин? «По делам их узнаете их…» По делам люди судят, не по помыслам. Что смертным за дело о твоих желаниях, коли видят они обитель возрожденную и приют, в коем сироты с таким тщанием растятся, что по всей Руси слухи о том сказочные ползут? Может, все же заслужил ты поклонения сего? Не мыслями, так делами. Человек слаб… Тебя искушали, и ты не всегда удерживался. Ты любил – и украл любимую. Был в обиде – и наговаривал на Филиппа. Никто не совершенен, и кабы я не прощал мелочи ради большого, с кем бы я остался? Но попуская слабину в малом, ты никогда не делал сего в урон державе моей или вере православной. Из казны копейки лишней не брал, с ворогами сражался, ради суда праведного от любой мзды отказывался, измены не прощал… Так что за хитрость в тебе такая, Басарга, скажи? Почему дело государево для тебя дороже радостей личных? Почему других не топил для своего возвышения, почему на посулы иноземные не поддавался?
– Нет в том моей заслуги, государь, – после некоторого раздумья пожал плечами Басарга Леонтьев. – Худороден я, и нет у меня ничего, кроме чести моей и службы. С юности знал, что не смогу никогда с князьями знатными сравняться. Знал, что, кроме честности и меча, нет у меня иных достоинств. Знал, что прочность державы отчей от каждого меча зависит. Вот им я и был, государь: «мечом каждым». Тем, кто по совести дело свое на месте своем делает. Коли знаешь, что не быть тебе ни дьяком, ни князем, не царедворцем, то и в измены подлые не лезешь, каковые пользы не принесут. Не в совести великой заслуга моя, а в том, что искусов не имею. Нам, худородным, честной службой жить легче. И держава твоя, государь, это мы и есть, суть ее и плоть. Она сильна – и мы сильны. Она умрет – и мы с нею.
– Вот она, стало быть, какая, честь худородных? – хрипло усмехнулся царь. – Скуратов худороден, Хворостинин худороден, Годунов худороден… Слуги честные. Не ищете, стало быть, возвышения, а просто тягло свое несете? Плоть и кровь земли русской…
– Ты смеешься надо мной, государь?
– Думу я думаю тяжкую, ибо и на мне свое тягло имеется. Кому доверить то, что токмо самый сильный и честный нести может? Федор мягок, средь князей одна измена, Собор церковный псарне подобен. Кому отдать, чтобы не для корысти своей чудо применил, не для славы и власти личной? Не потерял, не продал… Глупым баловством не опозорил. Гнетет меня сия тайна. Отдать должен, да некому…
– Прости, государь. Тут я тебе не советчик.
– А с кем еще советоваться, как не с хранителем, самим небом избранным?
Иоанн закрыл глаза, глубоко вздохнул:
– Слушай мою волю, боярин. Вам, худородным, плоть от плоти земли русской, убрус Господень доверяю. Храните его в руках своих, пока преемник достойный не найдется, чтобы святыню сию из рук ваших принять. Пусть в руках ваших он землю православную от бед хранит и силу вашу приумножает для защиты отчины нашей. Быть посему отныне. Аминь!
– Ты так говоришь, государь, словно духовную составил и причаститься готовишься!
– Война кончена, Басарга. Королевство Польское разорено и лет двадцать ближайших не поднимется, королевство Свейское силой нашей напугано и лет десять или двадцать беспокоить не решится. Империя Османская бита зело и на рубежи более не посягает. Казна державы моей полна, рати крепки. Разве не покойно все в царствии моем? Хочу и я на покой, Басарга. Устал…
* * *
Больше всего Женю Леонтьева беспокоило то, что их маленький престарелый «Гольф» просто-напросто развалится, не выдержав обрушившихся на старичка нагрузок. Две тысячи километров безо всякой подготовки, да на скорости под сто двадцать, да еще по извечным российским ямам, внезапно возникающим на пути буквально из ниоткуда. Квакнуть не успеваешь – а по колесу уже словно кувалдой ударили.
Обычно после серьезной выбоины Евгений настораживался, становился внимательнее, сбрасывал скорость. Но ровная и почти прямая трасса расслабляла, убаюкивала, нога невольно вдавливала педаль газа, и вдруг – опять удар!
К этому следовало добавить сто тридцать километров грунтовки, местами не самого лучшего качества – и потому Евгений ничуть бы не удивился, если бы у машины в один прекрасный миг не отвалились разом все четыре ее маленьких полуистертых колеса.
Однако чудо немецкого автопрома мужественно держалось и даже не заплакало от натуги ни маслом, ни антифризом, ни тормозухой.
Впрочем, себя Женя жалел: останавливался в гостиницах, отсыпался до упора, ел в кафе. Дорога в столь расслабленном режиме заняла четверо суток, но зато чувствовал себя молодой человек достаточно бодро. Ровно в одиннадцать утра, прокатившись вдоль длинного бетонного забора и миновав высокую водокачку, ржавую отчего-то только с одного бока, они въехали в поселок Лоустари.
«Через триста метров поверните налево!» – гнусным голосом предложил навигатор.
– Какие тут все дома… стандартные, – опустив голову, выглянула в окно Катя. – Кирпичные, словно казармы. А панельные, будто из Москвы на ссылку за старость из спальных районов высланы.
– Казармы, наверное, и есть, – кивнул Женя, выкручивая руль. – Военный городок. Тут, кроме военных, наверное, больше никого и нет. Так что лучше не задерживаться. Вояки посторонних не любят. Объясняйся потом с первым отделом…