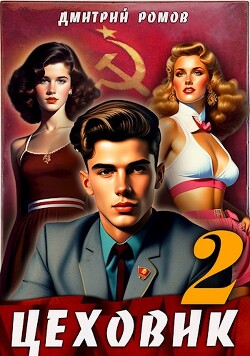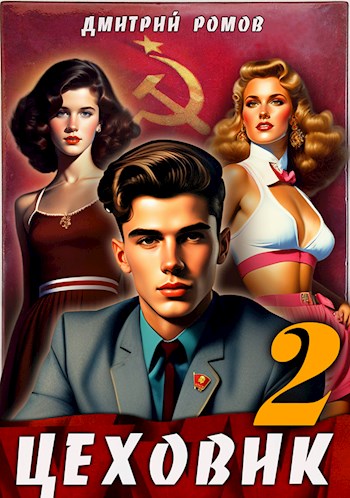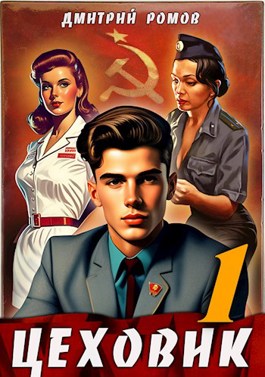— Ага, — смеюсь я. — Смотрите во всех кинотеатрах страны.
— Ладно, пошли, у меня мясной пирог есть.
— А икра? Разве первые секретари не едят одну лишь икру? Это разочаровывает. Зачем только люди стремятся на такие должности.
Мы идём в гостиную, которую я и увидеть даже не успел. На полу лежит шикарный шёлковый ковёр с тонким рисунком, с изображением голубых цветов.
— Бухарский? — спрашиваю. — Шёлковый, да?
— Хм… — удивлённо смотрит Ирина.
— Что? — пожимаю я плечами. — Господин знает толк в удовольствиях. И роскоши.
Она хмыкает и продолжает начатую мысль:
— Не все стремятся на высокие должности. Некоторых не спрашивают и бросают на ответственные участки.
— Такой подход мне нравится, — соглашаюсь я, осматривая комнату. — Именно так я и собираюсь с тобой поступать.
Диван, и два кресла такие же, как у Платоныча, румынская стенка, причём, довольно приличная, круглый стол со стульями, телевизор, проигрыватель и множество пластинок. На окнах плотные портьеры.
— В следующий раз я тебя выпорю, — мечтательно произносит она и закрывает глаза, представляя сладкие образы грядущего. — Ты будешь извиваться и просить пощады, но пощады не будет.
— Остановись! — требую я. — Сначала раба нужно накормить, не то я тебе прямо сейчас устрою восстание Спартака.
— Садись, — показывает она на диван, — сейчас подам.
Я подхожу к проигрывателю и ставлю… Что поставить? Сначала решаю Пугачёву, «Зеркало души», беру её в руки. Тёмно-зелёный фон, каштановые волосы, один глаз прикрыт чёлкой. Потом замечаю Джо Дассена. У меня была точно такая же пластинка. Семьдесят пятый. Он в сапогах и с гитарой сидит на досках у кирпичной стены, на стройке. Маме он очень нравился.
Убираю Пугачёву и ставлю француза. Начинает играть «Если б не было тебя», и я иду на кухню.
— О, здесь варят кофе! Какой аромат!
— Так, — строжится Ирина, — я где тебе сказала сидеть?
Я обнимаю её сзади и целую в шею, как муж, проживший с ней в браке лет пятнадцать.
— Слушай, Ир, а ты почему не замужем? — спрашиваю я. — Такая баба… Мечта ведь.
— Она резко разворачивается и отталкивает меня.
— Баба?! Ты совсем что ли ох**л, Брагин? Какая я тебе баба?
— Да ладно, правда, скажи. Это я так, на животном уровне тебя бабой назвал, так-то ты богиня. Кроме шуток. Афродита. Так, почему?
— Да пошёл ты. Думаешь если в койку ко мне залез, то и в душу можешь с ноги дверь открыть?
— Ладно… Ладно, не злись. Буду думать, что ждёшь, когда мне восемнадцать исполнится. Давай… здесь поедим. Здесь у тебя хорошо.
Кухня большая и современная, и мне здесь действительно нравится. Поэтому я без приглашения усаживаюсь за стол и жду обещанных яств. Они не заставляют себя ждать.
— О! Восхитительно! Неужели ты ещё и пироги печёшь? Таких, как ты не бывает.
— Разумеется, не бывает. Правда, пирог мама соорудила. Не до пирогов мне было.
— Ты сама-то ешь, — кладу я кусок ей на тарелку, — налегай. Тебе надо.
— Почему это мне надо?
— Ты тогда добрее станешь, злиться не будешь. Толстые люди обычно добряки.
Она сдвигает брови и набирает воздух, чтобы дать достойный ответ, но вдруг начинает ржать.
— Слушай, откуда ты такой взялся, а? — спрашивает она, просмеявшись.
— Известно, откуда, — с невозмутимым видом пожимаю я плечами. — Откуда все. Ты расскажи лучше, что надумала.
— Надумала? — удивляется она. — Ты про этого козлёнка Куренкова что ли?
— Ага.
— Да всё. Решила я с ним.
— Прям решила или только наметила пути решения?
— Решила. Практически на сто процентов.
— Ого! Молодец. И что, Куренкову кранты?
Жалко, если так, но, с другой стороны, и хрен с ним. Раз он такой непрочный оказался, значит не очень-то и надо было. Найдём ещё кого-нибудь. Наверное… Мда… Где вот только его найти?
— Думаю, он таких дюлей получит, что нескоро оправится. Будет знать в другой раз, на кого пасть разевать. Правильно я говорю?
— Правильно, любовь моя, — отвечаю я задумчиво. — Правильно.
Она внимательно на меня смотрит.
— Чего ты задумчивый такой?
— Это от осязания собственного счастья, — отвечаю я, всё ещё размышляя о Куренкове.
— Или осознания?
— Ага. Того и другого. И как ты его так быстро унасекомила?
— Каховскому позвонила. Он обещал помочь.
— Каховскому? — повторяю я, и челюсть моя буквально отваливается.
— Что такое? — удивляется Ирина. — Знаешь его?
Твою ж налево! Так легко и просто вся моя конструкция оказывается под угрозой обрушения. Походя. Безо всяких видимых усилий. Блин! Ну и дела!
— Каховского? Знаю ли я его? Ты про старшего? Нет, лично не знаком, но я знаю его сына Андрюшу.
— Говорят, та ещё заноза в заднице, да? — спрашивает она.
— Да нет, что ты. Он теперь и муху не обидит, — пожимаю я плечами.
— Что значит, теперь? — настороженно уточняет моя властолюбивая наложница.
— Так он, по моим сведениям, находится под стражей.
— Почему это? Ты можешь нормально объяснить?
— Видишь ли, именно в его задержании я вчера принимал участие.
— Серьёзно? — её глаза ползут на лоб.
— Ага.
— Так ты почему мне раньше не сказал?! — вскакивает она.
— Раньше случай не представился. Да чего ты так всполошилась-то?
Мы оба знаем, чего она всполошилась. Теперь может случиться такая штука, что Каховский-старший захочет произвести размен — своего сына, на Новицкую. И если он решит провернуть такой финт, то будет уже совершенно неважно, что я делал у неё в номере и что на самом деле видели агенты Смиты.
— Ир, у капитана Артюшкина к Каховскому личный счёт. Он жизнь свою положит, но не выпустит этого урода. Тем более там и ОБХСС в деле.
— Ты не знаешь Каховского. Ты его не знаешь.
— Ладно. Не знаю, но ты раньше времени не паникуй. Ясно тебе? Не знаешь, где Куренков живёт?
— Я не знаю, где живёт этот поц. Ёлки-палки, Егор! Вот что, давай-ка собирайся и иди домой, а мне подумать надо. Не до тебя сейчас.
Я молча встаю и иду одеваться. Мой букет так и лежит в прихожей, и теперь шансов дожить до завтра у него практически нет. А вот у Новицкой есть.
— Чего надулся-то? Обиделся что ли? — спрашивает она, когда я натягиваю куртку.
— Ирусь, как бы я мог на тебя обижаться? После всего, что ты для меня сделала?
— Так. Вот про это лучше тебе забыть.
— Это невозможно. Не переживай, я просто обдумываю, что можно предпринять.
— Серьёзно? — хмыкает она. — Ну и что, надумал?
— Пока не знаю. Когда придумаю, скажу. Ты только резких движений сейчас не делай.
Она подходит ко мне вплотную и целует, а после открывает дверь и выставляет наружу. Я выхожу из дома и бреду по тротуару, напряжённо пытаясь сообразить можно ли что-то сделать да и нужно ли. Ведь пока это всё только предположения…
Задумавшись, я не сразу замечаю чёрную «Волгу», остановившуюся чуть впереди. Обращаю на неё внимание только когда два крепких джентльмена в серых пальто выскакивают из неё и берут меня под руки.
— Егор Андреевич, — урезонивает меня один из них, когда я начинаю вырываться. — Вам придётся проехать с нами.
— С какой это радости! — пытаюсь возражать, но они даже и не думают отвечать, и запихивают меня в машину.
— Помогите! — начинаю вопить я и тут же получаю ощутимый тычок под дых.
26. Забота у нас простая
В конце концов, я оказываюсь зажатым на заднем сидении между двумя здоровыми мужиками. Они ничего не говорят и вообще не обращают на меня никакого внимания. Едем мы недолго. От силы три минуты — с Красной на Советский, а оттуда на Коломейцева. Собственно, я и не сомневался, что это Куренковские дела.
«Друзья все пойманы или убиты, переловили их агенты Смиты», — как спел бы Миша Елизаров. Вот такая матрица получается.
Меня ведут по длинным мрачным коридорам, вызывающим, честно скажу, неприятные чувства. Сколько я видел таких вот казённых зданий за свою жизнь, да и в этом конкретное тоже бывал пару раз, но сейчас не могу отделаться от чувства, что, как всем нам известно из Владимира Семёновича, «коридоры кончаются стенкой».