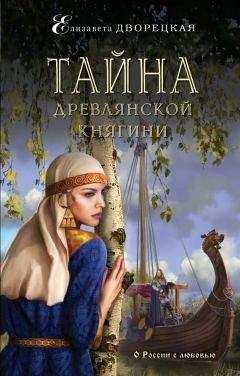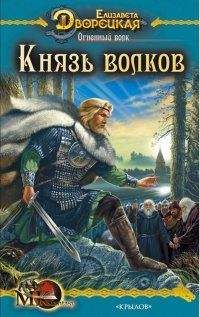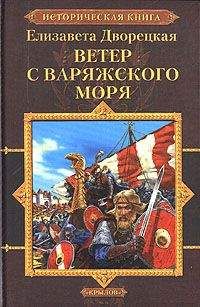кроме меня…
Она развела руками, качнулись чётки рыбьего зуба с серебряным крестиком, намотанные на кисть.
Воята молчал, потрясённый. Тянуло спросить: позволит ли ему мать Агния взять эту книгу? Теперь это собственность монастыря, но, если строго рассудить, вдова отца Ерона не должна была её забирать и уносить из прихода, знала ведь, что других священных книг там нет!
Но у неё не спросишь, зачем она это сделала. Куколь схимонахини оградил её от чужого любопытства не менее надёжно, чем могильный камень.
Взгляд матери Агнии тоже выражал сомнение. Видно, осознав, что в её руках находится книга с надписями от самого крестителя здешнего края, она усомнилась, стоит ли отдавать её какому-то парамонарю… молодому парню, в Сумежский погост… Не оставить ли для пользы и славы монастыря? Если бы она рассудила именно так, Воята не посмел бы с нею спорить. Тогда останется рассказать обо всём отцу Касьяну – пусть он, как преемник отца Ерона и самого Панфирия, испрашивает книгу у игуменьи.
– Ты, Гавриил Воята, я вижу, не простой парамонарь, а вещий, – улыбнулась мать Агния: уж верно, обо всех его мыслях ангел-прозорливец ей на ухо доложил. – Целую бесовскую рать одолел один.
– «Господь помощник мой и защитник мой…» [41], – тихо поправил Воята.
– «На него упова сердце мое, и помо́же ми…»
– Евангелие Панфириево со мной было, да еще Марьица…
– И Меркушка, – шепнула ему на ухо невидимая Марьица.
– «Яко держава моя и прибежище мое еси ты…» [42]
– «Имене твоего ради наставиши мя и препитаеши мя», – привычно продолжил Воята; ему всё казалось, что игуменья его испытывает.
– Ну вот! – Мать Агния развела руками. – В церкви читать – ты всё на память знаешь.
– Я не только… – начал Воята и запнулся.
Мысли, однажды высказанные отцу Касьяну, не давали ему покоя, но казались то важными и основательными, то смешными и самонадеянными.
– Позволишь сказать, что думаю?
– Говори, сыне. «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога».
– Сказывали старые люди, что упыри и прочие бесы завелись от Дивного озера. Того, где прежде был град Великославль, да погрузился, ибо не захотел принять от Путяты святое крещение. Так может… мысль имею такую… дерзновенную. Что если окрестить бесов озёрных? Души их пойдут к Богу, из-под власти нечистого вырвутся и вредить добрым людям более не станут.
От удивления мать Агния широко раскрыла глаза, и Воята вдруг разглядел, что они у неё голубые и ясные, будто самоцветы.
– Окрестить? Бесов озёрных?
– Научи меня, мати, – торопливо заговорил Воята, – возможно ли такое? Если мысль моя глупая, так я её отброшу и мечтами тешиться не стану. Ну а если… если оно сбыточно… то я себя не пожалею…
В мыслях мелькнула та девка из призрачной избы. Воята не знал, связана ли она с озёрными бесами и как связана, но почему-то было ощущение, что извод бесов поможет и ей обрести мир. Если она ему не померещилась со страху.
– Окрестить бесов… – повторила мать Агния, но уже с другим выражением, задумчиво. – И не упомню, чтобы где в книгах о таком говорилось. О пакостях их – множество, но чтобы душу в них сыскать… Да разве у них есть душа? Знаешь что? – Она встала, и Воята тоже подскочил, осознав, как много времени у неё отнял. – Я подумаю. Со старшими инокинями посоветуюсь, с отцом Ефросином. Если что надумаю – подам тебе весть.
– А как же… – Воята взглянул на Панфириеву Псалтирь, – книга?
– Книга? – Мать Агния тоже взглянула на изображение царя Давида и вздохнула. – Бери её с собой, раз уж через тебя её Господь из забвения вывел. Ты вон такого противника себе избрал – тебе щит понадобится крепкий. Кланяйся от меня отцу Касьяну.
* * *
Дела в Иномеле задержали Вояту почти до вечера, и только назавтра он тронулся в обратный путь. На делах, сказать по чести, ему было сосредоточиться трудно: чего стоят все эти кади ржи и солода, что не сдали в счёт десятины Спирко Сом и Матей Присека, и даже половина свиной туши, которую обещал здешний староста, Ходута, когда теперь у него, Вояты, была Панфириева Псалтирь! В Иномеле он никому не поминал о своём сокровище, завернул в мешок и держал в избе Ходуты, где остановился, под всей своей поклажей, но сам только о ней и думал, как ошалевший от радости жених о желанной невесте. Всё время хотелось её видеть, осторожно касаться верхней крышки из бурой кожи. Притрагиваться к серебряному кресту и самоцветам Воята даже не смел; следы стёртой позолоты казались ему истинным следом небесного света, а такое не трогают руками. «Сия книга – странничкам недвижимое море… Инок Панфирий руку приложил…». Захватывало дух от мысли, что теперь и он, Воята, сможет читать эту книгу и нести в мир её святую силу. С этими мыслями даже упыри из Лихого лога казались комариками, и никакому Страхоте против неё не устоять!
Выходит, Еленка, Македонова дочь, не обманула, когда сказала, что книг у неё нет. Если Псалтирь унесла в монастырь вдова отца Ерона, более двадцати лет назад, то при Ероновых преемниках, отце Македоне и отце Горгонии, её в Сумежье уже не было.
День возвращения выдался хмурым, но тихим. Отдохнувшая лошадка бежала по льду Хвойны бодро, и сколько Воята ни прислушивался к звукам в лесу, сколько ни вглядывался в заросли по берегам, ничего угрожающего не замечал. Едва ли тот удар топора, неловко нанесённый левой рукой, смог убить обертуна-беса, но, может, отбил у него охоту связываться. А теперь в санях лежит Псалтирь – да разве хоть один бес, будь он хоть с облако ходячее, посмеет близко подойти?
– Господь утверждение моё и прибежище моё! – с ликованием распевал Воята среди заснеженных лесистых берегов, к изумлению ворон и соек. – Избавитель мой, бог мой, помощник мой, и уповаю на него! Защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой! Хваля призову Господа и от враг моих спасуся! [43]
Почти сразу ему начал подпевать тонкий, звонкий голосок Марьицы, а потом ещё один – мужской, Меркушкин. Воята уже не удивился, что эти двое незримо его сопровождают – видно, такое им было Божье повеление, – только ухмылялся. Тоже обзавёлся ангелами, да ещё двумя, пусть и не такими могущественными, как у матери Агнии, но тоже полезными. Вспоминалось пение женских голосов в монастырской церкви – куда лучше, чем выходило у прихожанок Святого Власия. Вспоминались лица монахинь – немолодые, некрасивые, но исполненные редкой для мирских баб уверенности, рождённой привычкой полагаться