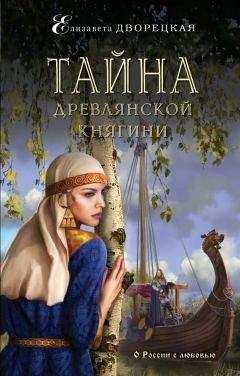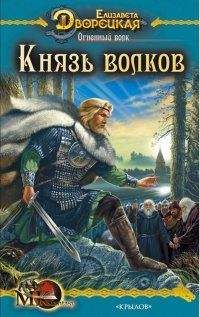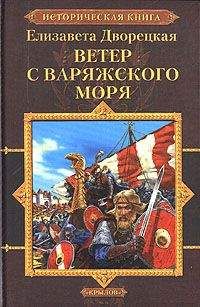умчался на крыльях.
За время беседы с лешим совсем рассвело: Воята вдруг обнаружил, что отчётливо видит каждый лист. Нежно пересвистываются проснувшиеся птицы. Поблёскивает роса на зелени, а над вершинами берёз уже простёрся первый солнечный луч. Белые облака лежат на голубом небе – день воцарился над миром.
Барашек побежал по тропе – в ту же сторону, в какую они шли от опушки. Даже не думая, где какая сторона и где отсюда должно быть Сумежье, Воята пошёл за ним. Мысленно оглядываясь на прошедшую ночь, думал: всё это мне приснилось. Коня в руках как вчера не было, так и сегодня нет…
И всё же сквозь изумление и недоверие всё яснее проступало скрытое ликование. Товар добыт и передан. Осталось получить расчёт…
* * *
– Если он в человеческом облике от волчьих своих блужданий ничего не помнит, – сказал Куприян, – то тебе, выходит, бояться нечего.
– Еленка говорила, что не помнит. Она одна, может, взабыль о нём что-то знает.
– Унюхать следы твои он мог только звериным носом. А как обратно в батюшку перекинулся – забыл. Если никто тебя там, близ часовни, не видел, то и всё.
Распрощавшись с лешим, Воята домой не пошёл. Что станет делать отец Касьян, лишившись коня, – сразу вернётся в Сумежье? Но если бы всё шло как обычно, то его ещё день на месте не было бы. Воята показываться дома не хотел: если отец Касьян вернётся, то и ему придётся остаться у Власия, а этого сейчас никак нельзя. Поэтому Воята отправился в Барсуки. Послонялся днём по деревне, вечером пошёл с Устиньей на луг, где местные девки, уже знакомые ему по последнему вечеру супредок, водят круги. Переночевал у Куприяна, утром поехал с ним в поле. Если кто станет дознаваться, где был в эти дни парамонарь – а вот где, в Барсуках, вся деревня его видела. К Устинье прицепился, расстаться не может. А если и забыл вовремя домой вернуться, так дело молодое, на дворе весна…
На самом деле Вояте было не до гулянок. Даже валяясь на траве под берёзами и глядя, как девки водят хоровод, он думал о своём.
Как за реченькой, за быстрою дубровушка шумит,
А во той ли во дубровушке соловьюшко свистит,
– запевала Оксенья, и все подхватывали:
Соловьюшко поёт, он насвистывает,
Он подруженьку приманивает…
Вояте вспоминалась ночь у Ярилиных ключей, соловьиные переливы, лягушечье бурчание и уханье совы. Снова и снова он перебирал в памяти каждый свой шаг, пытаясь убедиться, что не оставил никаких следов, какие мог бы заметить обычный человек.
Прилети, моя голубушка, без тебя мне жить
тошнёхонько!
Сердце обрывалось от мысли, что уже завтра после полудня он увидит Артемию… Наконец-то разглядит её, услышит её голос… Было страшно – что она такое, девушка, шестилетним ребёнком похищенная лешим и выросшая среди лесной нечисти? Двенадцать лет не видавшая вблизи людей! Не испугается ли она его? Умеет говорить по-человечески или разучилась? Но несмотря на все сомнения Вояту влекло к ней; если вызволить её из леса, отвести назад к матери, она научится жить, как все девушки. Она ведь была крещена в младенчестве, а значит, душой её лешие пока не завладели.
Если здраво рассуждать, то вроде и бояться нечего. Коня не найдут, уличить вора не смогут. А что парамонарь вовремя к пению не явится – Вояте сейчас было плевать. Он слишком далеко зашёл, чтобы бояться нахлобучки за небрежение своими обязанностями. Когда он в следующий раз предстанет перед отцом Касьяном, Артемия уже будет у матери. И гори всё прочее синим огнём.
Перед полуднем Воята выспросил у Куприяна, где в лесу росстань, и простился со знахарем. На полевых наделах мужики, сняв портки и насыпав в них семена, сеяли лен и коноплю, ярко светило солнце, и Воята сам с трудом верил, что идёт в гости к лешему.
За крайним полем близ Барсуков протянулась лядина – недавняя, покрытая пушистыми мелкими ёлочками, меж которыми бродили несколько коз, а за нею начинался густой лес. Дорога нырнула в него, зелёная тень сомкнулась вокруг, но вершины деревьев блестели под солнцем. Птицы щебетали наперебой.
– Как за реченькой, за быстрою дубровушка шумит! – вдруг запел мужской голос где-то за деревьями.
Воята остановился и огляделся. Что это за мужик, когда все в поле, слоняется по лесу и поёт девичьи песни? Лесная дорога в обе стороны была пуста. Он пошёл дальше, и через десяток шагов услышал снова, причём совсем с другой стороны и на большем отдалении:
– Как за реченькой, за быстрою дубровушка шумит!
Голос был вроде тот же самый, но кто бы мог так быстро переместиться? Видно, не человек это поёт…
Воята прошёл ещё с версту, и за это время три или четыре раза слышал пение: мужской голос выразительно, лихо повторял всё ту же строку, только первую, будто только её и знал. Это выводило из себя: уж или пой дальше, или замолкни!
Вот и росстань: дорогу пересекает тропинка. Воята повёл глазами вокруг, отыскивая осиновый пень и четыре берёзы. Нет, вчерашний встречный сказал, «от ели да от берёзы, от осинового пня налево, путиком малым на четыре сосны».
Сосен вокруг было довольно, и как понять, про какие четыре шла речь? Не осиновый ли пень вон там, под кучей валежника? Глядя под ноги, чтобы не наступить на пригревшуюся змею, Воята сделал несколько шагов от тропы.
– Как за реченькой, за быстрою дубровушка шумит! – с тем же выражением запел голос, и теперь он доносился с берёзовых вершин.
– А во той ли во дубровушке соловьюшко свистит! – выведенный из терпения, ответил Воята.
– А во той ли во дубровушке соловьюшко свистит! – радостно откликнулся голос откуда-то спереди, из-за бурелома.
Воята пошёл на голос.
– Как за реченькой, за быстрою дубровушка шумит! – опять запело впереди, ещё дальше.
Воята снова ответил. Так голос вёл его и вёл, Воята шёл без тропы, не оглядываясь и не думая, как будет выбираться. Яркий солнечный свет отгонял страхи: кажется ведь, что пока солнце за тобой приглядывает, ничего дурного случиться не может.
Впереди показался просвет, и на самом краю поляны Воята увидел здоровенный старый дуб. Половина его была зелёной, в недавно распустившихся листочках, половина – сухой и голой. Немного обойдя его, Воята увидел и причину хвори: в стволе зияло огромное дупло от самой земли, в рост человека. И в