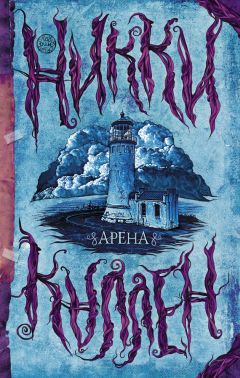— Любишь сладкое?
— Люблю.
— Не по-мужски.
— Я не настаиваю на своей мужской природе, как перец на водке, — и засмеялся, будто кто-то поскользнулся на банановой кожуре, — а, ты же любишь соль… Селедку, наверное, винегрет, бульоны всякие… Огурцы. Все, что полезно. Морковку с чесноком…
— Слушай, ты дашь мне соль? А то мы с папой останемся без обеда.
Он неохотно встал, отряхнулся, как от воды, и ушел на кухню, стукнул шкафом, как кулаком; я не удержался, заглянул в пакеты: два палмоливовских геля для душа, бледно-желтые, как луна на исходе, банановые яблоки, черный хлеб, булочки с корицей, всякие крупы, пакеты молока, йогурты… Он кашлянул у меня над ухом — я покраснел, взял соль на белом стеклянном блюдечке и ушел; дверь за мной тяжело захлопнулась, как ворота замка за неугодным вассалом…
Потом мы ели солянку, хлеб с отрубями, кофе из жестянки; куча вещей под ногами — как камни; мама вытащила только тарелки, вилки, кружки, чайник и казанок и подключила холодильник; «мам, — сказал я, — у нас потрясные соседи снизу»; она мыла посуду; тяжелая светлая коса вокруг головы — словно старорусская дворянка; потом вытерла руки пушистым полотенцем, взяла сигарету, тонкую, как соломинка, и только тогда переспросила наконец: «что?»
— У нас очень странные соседи снизу — парень и девушка… очень красивые, с собакой-колли…
— Гражданский брак?
— Нет, брат и сестра; а что, это важно? — удивился я; ну что за уроды эти взрослые: говоришь им о цвете глаз твоего нового друга — странном, как отблеск заката на стекле, — вдруг он вампир? а они тебе: кто его родители, как он учится, куда думает поступать; а потом сам становишься таким — определенным, определяющим, как геометрия…
— Одни, без родителей?
— Да вроде, — в одном городе у меня были знакомые без родителей — два брата, Марк Аврелий и Юэн; их мама умерла от рака, отец не выдержал без нее — застрелился, но они никогда не говорили об этом; я учился с Марком Аврелием в одном классе, он был старше брата на шесть лет — учил его пить, курить, читать древних философов; в их квартире тусовался весь город. — Но они не маленькие…
Тут раздался звонок, как по сценарию, и пришла соседка — тоже знакомиться; с тортом собственного приготовления; «ваш сын?» «да, старший, Люк, второй, Ган, уехал учиться в суворовское» «боже, что вы говорите, это так необычно, а у меня две дочери-близняшки»; поставили чайник, уселись у окна, как куры на насест; «над вами живут Албарны, очень хорошая семья; он, правда, выпивает частенько, но работа такая — своя автомастерская; руки золотые, всю мебель в доме сам сделал, мать — библиотекарь в тюрьме, представляете; очень красивая женщина; у них тоже двое сыновей… А под вами…»
— Люк сказал, какие-то брат и сестра без родителей, — они обе вдруг глянули на меня; я ел торт и тупо покраснел, словно своровал мелочь. — Он попросил у них соли к обеду, я еще не все тюки распаковала…
— Каролина так рано была дома? — удивилась соседка, а я почувствовал запах: любопытства, пыли, лимона…
— Мне открыл парень, — ответил еле слышно, наблюдая, как данное мне откровение от Бога на моих глазах превращается в сплетню-макраме.
— Как странно; кажется, вы первый человек, кто увидел его впервые за пять лет. Калиновские живут здесь уже лет пять, эмигранты из Польши, и все эти пять лет он не выходит из дома… — мама резко повернулась, пепел с сигареты просыпался ей на фартук; и я понял, что ей неинтересно.
— Просто роман какой-то.
— Не роман, а паразит, — резко ответствовала соседка, словно речь шла о позиции нашей страны в новой войне. — Его сестра — гений, молодой ученый, физик-ядерщик; ее пригласили сразу после защиты диссертации в наш космический городок — наш отец сегодня в пять утра уехал туда на служебной машине, работать; чудесная девушка: всегда место в автобусе пенсионерам уступает, поговорит при встрече; а брат живет за ее счет который год, даже в магазин не сходит. Школу давно окончил и болтается без дела…
— Откуда вы знаете, может, он писатель — давно под псевдонимом Нобелевскую премию получил, — сказал я; соседка засмеялась; кажется, она не верила в то, что люди по соседству могут получать премии и вообще — быть не из крови и плоти и желаний; нормальная философия: прекрасные истории случаются с кем-нибудь другим. «Приходите ко мне в гости, за солью, чем угодно, очень буду рада», — мама вышла проводить ее в прихожую, тоже заваленную коробками, тюками, как ворота осадного города; а внутри меня поднялся настоящий белый шторм. Наверное, это было все то же пошлое, бледное, как в холод, любопытство, но мне оно казалось благородным, ведь я в своем мире был положительный герой; мушкетер, рыцарь Розы; два дня мы с отцом распаковывали вещи, кресла, ставили их у окна, не нравилось; двигали к двери, рядом ставили стеллажи, на них — штуки из IKEA и книги — полную «Библиотеку приключений». На утро третьего дня я помыл блюдечко, спустился этажом ниже и позвонил в их дверь. Долго никто не открывал, даже лая не было слышно; «Каролина взяла собаку, Кароль спит», — подумал я; стеклянный домик воображения; еще раз позвонил; звонок у них был обычный — резкое сопрано; приложил ухо к замку, как ковбои к земле; потом поставил блюдечко под дверь, написал на листочке из блокнота с дневником моего сердца «спасибо» и шагнул по лестнице вниз, к улице; нужно еще забежать в школу — посмотреть расписание. Дверь позади меня открылась.
— Ну, чего тебе? — голос его прозвучал сердито, будто его оторвали от классного детектива.
— Блюдечко принес, вернуть, — он сшиб его дверью, оно покатилось, как яйцо, вместе с запиской к ступенькам, но я поймал.
— О господи, — сказал он, взъерошил волосы; в белой приталенной рубашке, с рукавами, закатанными под тонкие, как ветки, локти, и в этих бархатных штанах он казался богом, человеком с постера; совершенный и изящный, как восемнадцатый век. — Слушай, ты не мог бы выгулять Миледи Винтер? Я обычно ее так отпускаю, с ошейником, и она всегда возвращалась, но я все жду, что не вернется…
Я поднялся. Он впустил меня в прихожую, свистнул собаку, начал бороться с ошейником, поводком и рыжими лапами.
— Шарлотта Бейль, Миледи Винтер, леди Кларик — как в кондитерской, я бы не выбрал…
— Каролина назвала, — он увернулся от языка, — ее любимая книжка. Она же там в основном под этим именем… А ты, часом, не Скайуокер?
— Да, а мой брат — Ган. Папа обожает «Звездные войны».
— А ты?
— Да, ничего не имею против в выходные с тазиком оливье.
— А меня назвали в честь Папы Римского: я родился в день, когда в него стреляли; мои родители католики, для них это было важно… Главное — это найти то самое имя; гласные-согласные, цвет-звук-вкус; национальная принадлежность не имеет значения. Правда? Ненавижу сугубо национальные литературы, хлорированную воду и сплетников…
Я ушел гулять с Миледи Винтер; она была сильная, как ветер; весь квартал красных домов-близнецов тихо полоскался за ней в невесомости, пока она гоняла голубей; последними мышечными усилиями я повернул, как старинный резной штурвал, домой; Кароль уже ждал на пороге; «в окно посмотрел», — объяснил, и я представил, как отгибается украдкой край малиновой занавески: не дай бог внешний мир заметит, что им кто-то интересуется… Из квартиры тянуло кофе с корицей.
— Спасибо.
— Не за что. Хотя — есть за что; угостишь кофе?
— Гм… — он наклонился к собаке, и я стал местом, освещенным луной. Решил отомстить.
— Ты не любишь сплетников, потому что о тебе сплетничают. Погоди, как там: не работает, сидит на шее у сестры, такой хорошенькой и хорошей девушки, и — самое скандальное и нетерпимое — никогда не выходит из дома. Подвергнуть его аутодафе!
Он медленно распрямился, сжал перламутровые кулаки, и я подумал: «о нет, кажется, не отомстил, а обидел; сейчас ударит»; хотя честных людей трудно обидеть, они в основном экзистенциалисты, привыкли отвечать за свое существование.
— Ведут с Каролиной нравоучительные душевные беседы на лестнице, когда она с работы приходит с тяжелыми пакетами… — прошипел он, словно лопнул воздушный синий шар. — Старые, жирные, пыльные бляди. Слава богу, моя сестра слишком хорошо воспитана в отличие от них; молча выслушивает и спрашивает еще: «а как ваше здоровье?» Если я не выхожу из дома, так это чтобы с людьми не встречаться, с подобными им; которым есть дело до всего, потому что у них нет своих дел. Что же до работы — я в месяц зарабатываю больше, чем весь этот дом за год.
— Взламываешь коды центральных банков? — я захотел написать сценарий приключенческого фильма с кареглазым хрупким героем без героини. — А я тебе расскажу, о чем мой будущий роман.
— Думаешь, твой секрет стоит моего?
— Думаю, да; я же будущий нобелевский лауреат по литературе, — он засмеялся и открыл дверь; я вошел, а он побежал на кухню спасать кофе — вернулся с розовым пушистым полотенцем через плечо: — Тебе что, особое приглашение нужно?» Миледи Винтер скакала вокруг меня, записав, похоже, во что-то симпатичное, мелкое, вроде голубя; я снял кроссовки и прошел в его комнату — комнату Кароля Калиновского, самой загадочной жизни после моей: малиновые, плотно задернутые занавески, малиновый тюль под ними, вместо обоев — роспись, огромный сад, полный птиц, золотых и розовых плодов; сад рисовала Каролина, узнаю я потом; еще она вышивала копии знаменитых картин — Брейгеля, Босха, Вермеера; плазменный монитор, куча дисков и журналов на толстом темно-красном паласе; плетеная темная мебель, столик из стекла и горы подушек всех цветов темно-красного: малинового, бордо, винограда, клубничного со сливками, ярко-вишневого, свернувшейся крови, багрянца, брусники, красного дерева, махровой розы, переспелых яблок, рубина, граната; на них Кароль сидел и спал, укрываясь клетчатым мохеровым шотландским пледом. Я будто попал внутрь коробочки для обручального кольца; свет здесь шел от монитора и от красной лампы в форме губ Мэй Уэст; поднял один из журналов, каталог элитной женской обуви: каблуки красные, из времен Людовика-Солнце, пряжки с бриллиантами и рубинами; как в этом можно ходить — невообразимо. Кароль принес кофе, пах он жареным; крошечные серебряные чашки; сахар кубиками, брать щипцами; я нащупал подушку, не промахнулся: «ну?»