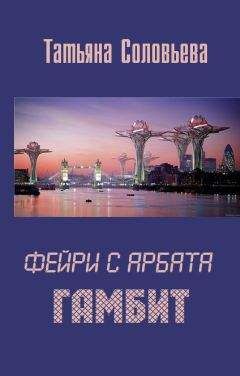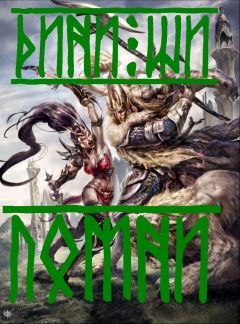К чертям собачьим эту выпивку! Кофе. Только кофе.
Едва не смахнув бутылку на пол, сунулся в кухонный шкафчик, наткнулся на баночку с кардамоном. Лилька всегда добавляет три коробочки кардамона на турку, у нее получается самый вкусный в мире кофе...
Да где же она?!
Чуть не наступив Тигру на хвост, Ильяс прошагал к окну, дернул раму. Вдохнул холодной октябрьской мороси. Гуляет? По этакой мерзости?
Там, внизу, кто-то приехал. Лиля?! Прошуршали по лужам колеса, хлопнула дверца, затосковал Розенбаумский вальс-бостон и послышали голоса, мужской и женский. Не она. Черт.
Ильяс оглядел пустую кухню, словно искал ответа: где она? Наткнулся взглядом на ноутбук.
Застыл, забыв о летящей в окно стылой воде. Перевел взгляд на календарь.
Четвертое.
Сегодня - четвертое октября.
До ее миссии - неделя.
Все хорошо. Она не играет больше в свое фентезийное дерьмо. Она не пойдет на погружение.
Не-пой-дет!
Выдохнул, напомнил себе про конверт у консьержа, подумал: очередная реклама, но хоть отвлечься. Оставив окно нараспашку, пошел прочь, протянул руку за курткой, глянул в зеркало... и вдруг понял: что-то не так. Чего-то не хватает. Несколько мгновений мучительно соображал, чего? Ну да. Амулета. Дурацкого деревянного полумесяца на кожаном шнурке, который Лиля купила на Арбате, долго носилась с ним по всей квартире, выискивая достойное место, и в конце концов повесила на зеркало. Он висел тут почти четыре месяца. Все четыре месяца...
Запрещая себе гадать, куда делся амулет, и гоня прочь пробирающих до костей холод, Ильяс распахнул шкаф. Облегченно выдохнул: ее куртки и пальто на месте, купленная к зиме серебристая норка на месте... то есть как это все на месте?! В чем же она поехала к Настасье?
Ноги сами понесли в спальню. Руки сами, без участия мозгов, раздвинули дверцы купе и принялись перебирать ее одежду. Джинсы, брючки, любимое пончо, блузки и платья - шмотья было немного, но все отличное, он сам выбирал, жена художника не может одеваться как облезлая мышь. И снова. Все на месте. Все! До последней майки. Кроме той, черной и старой, в которой она пришла. И кроме старых джинсов с ветровкой, страшных как война.
Нет. Не может быть. Она не могла, только не сейчас!..
Руки дрожали так, что он не смог раскурить трубку. Достал спрятанные четыре месяца назад сигареты, закурил с черт знает какой попытки. Закашлялся, до слез, до тошноты. Распахнул окно в спальне, выбросил сигарету и прижался лбом к холодному стеклу.
Нет. Она не могла.
Повторяя это, как заклинание, медленно подошел к туалетному столику, открыл шкатулку. Бросил один взгляд - и закрыл. Кольцо было там. Валялось поверх кучки подаренных им серег, браслетов - и разорванного морского ожерелья, так и не собрались починить. А ведь хотели. Вместе.
Черт. Черт! Почему?!
Заверещал телефон. Пронзительный звук отчетливо напоминал о зубной боли.
Машинально схватив крупную жемчужину и зажав ее в кулаке, словно она как-то могла приманить Лильку обратно, Ильяс поднял трубку.
- Илья Сергеевич, вы бы все же спустились, - зачастил консьерж. - Девушка ваша очень просила вам конверт сразу отдать, как вернетесь...
Трубка упала. Мимо. Консьерж продолжал говорить, а Ильяс уже бежал вниз. Конверт. Записка? Хотя... толку с нее.
Остановился посреди последнего пролета. Глубоко вздохнул и нацепил улыбочку. Фальшивую, как четыре копейки. С этой же приклеенной улыбочкой заглянул к консьержу, забрал конверт и сунул ему бумажку, наугад вытащенную из кармана. Консьерж, продолжающий что-то говорить, замолчал, как отрезало. А Ильяс, держа конверт за уголок, словно там могла оказаться сибирская язва, вышел из подъезда. Глянул на небо - морось закончилась, тучи разошлись, и показалась тусклая половинка луны.
Похлопал себя по нагрудному карману, без удивления обнаружил там сигареты вместе с зажигалкой. Закурил. Несколько затяжек просто смотрел на небо, катая в ладони одинокую жемчужину. Потом нащупал в конверте ключи, все три, вместе с брелоком-флейтой. И никакой, разумеется, записки. Бросил недокуренную сигарету на асфальт, подумав, что когда-то верил в глупую детскую глупость: вместе с бычком дотлевает здоровье. Ха-ха три раза. Все что было, давно уже. С концами.
Чтобы войти обратно в подъезд, пришлось разорвать конверт и достать ее ключи. Свои забыл. И дверь оставил открытой, хорошо что Тигр - не такой дурной, как люди, из теплого уютного дома с полным холодильником печенки его веником не выгонишь.
Тигр встречал у порога. Светил желтыми фарами, тарахтел как трактор и всячески показывал, что любит, не бросит и вообще лучший друг.
Проводил на кухню, прыгнул на стол и осуждающе фыркнул, когда Ильяс аккуратно спрятал жемчужину в карман и взялся за телефон. Мол, чего ты не понял, двуногое? Ушла она. Ушла. А я - остался. Чеши!
Оттолкнув кота, нажал единицу. Выслушал "абонент временно недоступен" целых пять раз, очень уж хорошо звучало слово "временно". Оптимистично.
В ногу ткнулся Тигр, зашуршал чем-то. Ильяс кинул бездумный взгляд под ноги, и вдруг понял, что шуршит: смятый лист из блокнота. Записка.
Поднял.
Расправил.
Прочитал три коротких слова:
"Ильяс, прости, я..."
Больше ничего она не написала. Трусишка. Маленькая трусишка. Сбежала. Домой, наверное, или к Настасье. Надо просто поехать и с ней поговорить. Она не может вот так, насовсем! Она же...
На слове "любит" перехватило горло, снова затошнило, в голову вонзилась мигрень, и захотелось немедленно кого-нибудь убить. Например, этого ее куратора из игрового центра. И всех прочих деятелей, запудривших Лильке мозги.
Смяв записку, швырнул ее обратно под стол и пошел одеваться. Пошатываясь. Видимо, от нервов организм вспомнил, как издыхал в хосписе, и решил напомнить ему. Чтоб мало не показалось.
Звонок в дверь раздался, когда Ильяс пытался попасть в рукава куртки и вспомнить, куда дел ключи от машины: ехать на мотоцикле в таком состоянии - чистое самоубийство.
Первой мыслью было: Лилька! Опомнилась, вернулась!..
А второй - нет, не Лилька. Кактусы не возвращаются сами, кактусы слишком гордые птицы. Или мыши. Неважно. И вообще, причем тут... да, ключи от машины, и какого черта так мутит?
В мозг ввинтился второй звонок. Настойчивый и злой.
Кого принесло на ночь глядя и куда консьерж смотрит?..
Надел-таки упрямую куртку и открыл дверь.
На пороге стоял классический байкер. Вульгарис. Черные драные джинсы, куртка с бахромой, бандана. Наглая ухмылка, месяц не мытые патлы. Челюсти лениво двигаются. Жуют. Черт. Почему он все время жует? Высшее звено пищевой цепочки - жвачное.
- Какого черта?..
Не отвечая, жвачное паскудно ухмыльнулось, отодвинуло Ильяса с дороги и протопало на кухню. Не снимая грязных ботинок. Там плюхнулось на стул, взяло из вазы с фруктами яблоко, брезгливо отерло его о рукав, - засаленный и вонючий рукав дорогой кожаной куртки, - плюнуло жвачку на пол и смачно захрустело.
- Пьем, сударь? - прикончив яблоко и бросив огрызком в открытое окно, спросило жвачное совершенно не соответствующим виду интеллигентским голосом, в точности как у Янковского. - Зря. Не поможет.
Ильяс стоял над ним, держась за стол, и пытался убедить себя, что это - глюк. Делириум, мать его, тременс. И плевать, что не пил. Даже не ел, только кофе с утра.
- Не делириум и не тременс, сударь мой Илья Сергеевич, - вздохнул не-глюк. - Увы. Да вы садитесь, садитесь. В ногах правды нет. Забавные у вас поговорки. Весьма.
Нащупал спинку стула, сел. Скорее упал. Тоскливо глянул на бутылку коньяка у бара: лучше бы напился и примерещилось, чем вот так, дьявол собственной персоной в гости.
Байкер-Янковский тем временем листал книжку, хмыкал и качал головой. Никаких тебе спецэффектов типа адского пламени, потусторонних звуков. Ни даже завалящей собаки Баскервилей. Хоть бы повыл кто!
- Какие-то у вас превратные представления, Илья Сергеевич, - укоризненно пробормотал байкер. - Шесть лет назад вы были... спокойнее, что ли?
- Шесть лет назад мне нечего было терять, - пожал плечами Ильяс. - Кофе, коньяк?
Встал, не дожидаясь ответа, добрел до плиты. Поставил, наконец, турку на огонь.
За спиной вдруг похабно заржали и зачитали хорошо поставленным голосом актера театра имени Ленинского Комсомола:
- Моим читателям, ради которых все это затевалось, Джафару, повелителю Ясеневой Метлы и Великому Злодею Метаконгу, наезднику вороного Харлея и владельцу Лупоглазого Солнца. Без них эта книга никогда не была бы написана... - актерские интонации без перехода сменились хамскими, даже голос стал низким и хриплым: - Ха! Помню-помню этого блаженного!