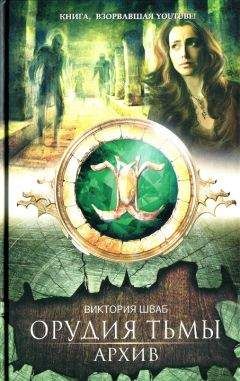— Неужели под всей этой пылью погребена нормальная комната? — Он свешивает руки и упирается подбородком в спинку стула. Я не слышала, как он вошел.
— Доброе утро, — добавляет он. — Здесь, кажется, кофе не угощают?
— Увы, пока нет.
— И вы при этом зоветесь кофейней?
— Если говорить точнее, на вывеске написано «скоро открытие». — Я поднимаюсь на ноги. — Ну, что привело тебя в будущую кофейню Бишопов?
— Я тут подумал…
— Опасное занятие.
— Это точно. — Он игриво изгибает одну бровь. — Я решил спасти тебя от мук одиночества среди угрюмых дней и утомительных домашних забот.
— Да неужели?!
— Я понимаю, великодушно до неприличия. — Он замечает отложенную мной книжку, тянется к ней и проводит пальцами по тиснению.
— Что тут у нас?
— Летнее чтение, — говорю я и снова принимаюсь тереть прилавок.
— Им должно быть стыдно за это, — говорит он, пролистывая страницы. — Ведь обязаловка способна разрушить очарование даже самой лучшей книги.
— Ты читал его?
— Несколько раз. — Я удивленно поднимаю брови, и он смеется. — Опять этот скептицизм. Внешний вид может быть обманчив, Мак. Я не только воплощение красоты и обаяния. — Он принимается пролистывать дальше. — И насколько ты продвинулась?
Я издаю стон как от зубной боли и продолжаю тереть гранит:
— На две строки. Может, на три.
Теперь его очередь удивляться. Но он ничем себя не выдает.
— А знаешь, некоторые книги лучше слушать, чем читать.
— Да ладно!
— Я серьезно. И я тебе это докажу. Ты убирайся, а я тебе почитаю.
— Идет.
Я с азартом работаю губкой, а он кладет книгу на спинку стула и начинает не с первых строк, а открывает где-то в середине, прокашливается и начинает:
— «Здесь мною входят в скорбный град к мученьям…»[4]
У него ровный, мелодичный голос.
— «Здесь мною входят к муке вековой…»
Он поднимается на ноги, не отрывая взгляда от книги, и обходит стул кругом. Я стараюсь слушать, но слова сливаются в единый фон, и я могу только смотреть, как он шагает в мою сторону, и половина его лица скрыта тьмой. Потом он выходит на свет, и нас разделяет только прилавок. Я могу разглядеть шрам на его шее вдоль ворота, рядом с кожаным шнурком. У него широкие квадратные плечи, и светлых глаз сейчас не видно из-за густо опушенных ресниц. Его губы движутся, я растерянно моргаю, когда он начинает говорить тихо, вкрадчиво и почти маняще, словно вынуждая меня всю обратиться в слух, и я впитываю концовку стиха.
— «Оставь надежду всяк, сюда идущий!»
Уэсли поднимает на меня глаза и замирает, опустив книгу.
— Маккензи! — Он обезоруживающе улыбается.
— Да?
— Ты все мылом забрызгала.
Я смотрю перед собой и понимаю, что он не шутит. Мыло стекает с прилавка, покрывая пол веселыми синими лужами.
Я смеюсь, пытаясь скрыть смущение.
— Ну что ж, хуже уже не будет.
Уэсли, похоже, понравилось вгонять меня в краску. Он перегибается ко мне через прилавок и начинает рисовать пальцем мыльные узоры.
— Утонула в моих глазах, да?
Он еще больше подается ко мне, опершись руками о сухие части прилавка. Я хитро улыбаюсь и замахиваюсь губкой, собираясь его обрызгать, но он уклоняется, и мыльные капли попадают на и без того залитый прилавок.
Уэсли назидательно тычет черным ногтем в свою нагеленную прическу.
— Влага может разрушить мой безупречный лук! — и заливисто смеется, когда я картинно закатываю глаза. Потом я не выдерживаю и тоже начинаю смеяться. Оказывается, это приятно. Наверное, именно так себя повела бы М. Смеялась бы и дурачилась.
Мне хочется поделиться с Уэсли своими мечтами о нормальной жизни, полной таких моментов.
— Ладно, — говорю я, вытирая мыльные разводы. — Я не имею ни малейшего понятия, что ты читал, но мне понравилось.
— Это надпись на вратах в ад, — объяснил он. — Моя любимая часть.
— Но разве это не жуть?
Он рассеянно пожимает плечами.
— Если как следует об этом подумать, Архив не очень-то отличается от Ада.
Все очарование момента лопается, как огромный мыльный пузырь. Я вспоминаю о ящике Бена в тихих, пустынных залах.
— Как ты можешь такое говорить?! — недоумеваю я.
— Если быть точным, не сам Архив, а Коридоры. Ведь, как ни крути, это место, полное неупокоенных мертвецов, так?
Я с отсутствующим видом киваю, безуспешно пытаясь унять ноющую боль в груди. Дело не в том, что мы заговорили про ад, а о том, как легко Уэсли переключился с чтения Данте на обсуждение Архива. Будто это единая жизнь, единый мир — но это заблуждение. Я намертво застряла между миром Архива и Внешним миром, и не понимаю, как Уэсли удается спокойно стоять одной ногой в каждом из них.
Ногтем большого пальца ты откалываешь щепку с деревянного поручня. Крыльцо давно пора покрасить, но этого не сделают уже никогда. Мы вместе последнее лето. Бен не приехал — его отправили в лагерь. Когда зимой дом выставят с молотка, крыльцо у него будет все таким же, обшарпанным и потрескавшимся.
Ты пытаешься научить меня разделяться на части.
Не беспорядочно, как рваная бумага или конфетти, а четко и регулярно — как разрезанный торт.
Ты говоришь, что в том, как ты лжешь и сам миришься с этим, выражается твоя личность. Только так ты можешь оставаться в живых.
— Будь тем, кем тебе необходимо быть, — говоришь ты. — Когда ты с братом, или родителями, с друзьями, Роландом и даже с Историей. Помнишь, что я говорил тебе о лжи?
— Надо начинать с маленькой правды, — говорю я.
— Именно. Здесь то же самое.
Ты выбрасываешь щепку в темноту и отколупываешь следующую. Ты никогда не мог сидеть без дела.
— Начни с себя. Каждая версия тебя — это не ложь. Это просто варианты.
Вокруг тихо и темно. Слишком жарко даже ночью. Я собираюсь уйти в дом, но ты останавливаешь меня.
— Еще кое-что. С этой самой поры разные части твоей жизни начнут накладываться друг на друга или пересекаться. Здесь тебе нужно быть очень осторожной, Кензи. Тщательно продумывай свою ложь и держи все свои миры как можно дальше друг от друга.
Все, что связано с Уэсли Айерсом, ужасно запутано.
Три моих мира были надежно разделены стенами, дверьми и замками. Но теперь пришел он и притащил в мою обычную жизнь Архив — как грязь на подошвах ботинок. Я знаю, что бы сказал на это дед. Знаю, знаю, знаю. Но это новое «наложение» страшное и в то же время очень заманчивое. Я буду осторожной.