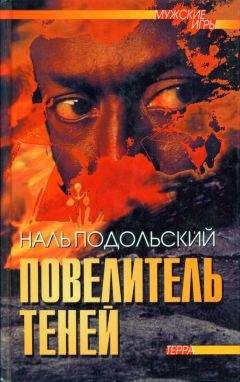И вздохнет ангел-хранитель:
— Ну пошли, горемыка.
Будет несколько лет путешествовать чемодан под землей по трубам, но однажды под напором течения встанет он на ребро, застрянет и лишит горячей воды сразу целый район. Долго будут искать причину, пока не найдут этот странный металлический чемодан, а ночью, тайком, бригадир аварийных рабочих вырежет автогенной горелкой замок чемодана и увидит внутри раскисшее месиво из бумаги и магнитофонных пленок. Плюнет, ругнется матерно и выкинет все на помойку.
БЕГИН НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ БЕГИН МЕРТВЫЕ ИНОГДА КУСАЮТСЯ ЕНД ЕНД ЕНД
Памяти Роальда Мандельштама
Жил-был поэт. Он был одним из тех многих юных существ, что приезжают однажды взглянуть на наш город, тотчас в него влюбляются и стараются в нем остаться на любых условиях, меняя сытую жизнь под родительским кровом на голодное, полное случайностей, сомнительное и неспокойное существование.
Нашему поэту везло: отличая его от большинства других поклонников, город ему отвечал чем-то вроде взаимности. Поэту была подарена редкая привилегия: за два года житья в городе он почти не имел столкновений с людьми административными, с представителями закона и с соседями — одним словом, с людьми, не обязательно поголовно злыми, но изгоняющими музу поэта далеко и надолго.
Город давал поэту жилье и пищу и взамен требовал службы. В зимнее время город хотел, чтобы в домах его было тепло, и каждый четвертый день заточал поэта на сутки в каменное подземелье котельной. Низкие потолки, сплетение серых труб и гудение газовых горелок отпугивали музу поэта, и писать в котельной стихи ему не удавалось. Если находилась подходящая книжка, он сидел и читал, а в противном случае, признаемся с прискорбием, попросту спал во время дежурства.
По утрам город будил поэта. Сначала он посылал голубей ворковать и хлопать крыльями перед окном на карнизе, а если это не помогало, по улице начинали ездить гремучие грузовики с железными трубами.
Город спасал поэта от голодовок. Если тому нечего было есть, достаточно было прогуляться по городу ночью, когда из машин в булочные перегружают теплые мягкие булки, и уж хлебом тогда он бывал обеспечен, ибо на многих из этих машин работали такие же, как он, нищие поэты и художники.
Подобно дикарю в джунглях, которого лес поит, кормит, пугает и развлекает, наш поэт полностью зависел от города и обожествлял его не в меньшей степени, чем дикари — свои джунгли. Он жил словно наедине с городом и ощущал в отношениях с ним даже некоторую интимность.
Город часто менял наряды и порой был капризен, как стареющая актриса. Каждое утро он украшался по-новому, чтобы поэт, выходя на улицу, вновь и вновь удивлялся его красоте и говорил:
— Ты прекрасен, о город!
Каждый четвертый день поэту к восьми нужно было в котельную. Часов у него не было, — для чего поэту часы — и ему город сам показывал время. Шестиэтажный дом против окошка поэта, дом-часы, начинал оживать с половины седьмого. Первым загоралось окно на шестом этаже слева, загоралось неярким голубым светом, и за ним правее внизу вспыхивали два желтых окошка. Постепенно освещались все новые окна, образуя меняющиеся в заведенном порядке световые фигуры, и наступал момент, когда от верхнего голубого окна наискось вниз протягивалась сплошная гирлянда разноцветных огней, и это значило: пора выходить. Через несколько минут голубой фонарик наверху гаснул — город, все еще кротко, увещевал поэта:
— Дружок, ты опаздываешь!
Но стоило ему помедлить еще — и город терял терпение: резким слепящим светом, перечеркивая цветную гирлянду, вспыхивали сразу все окна второго и третьего этажей:
— Беги же, несчастный! Беги скорее!
И действительно, после этого окончательного предупреждения, как бы он ни спешил, опаздывал уже обязательно и выслушивал от своей сменщицы слова хотя и расширявшие его лексикон, но для поэзии совсем не годившиеся.
Жизнь ему не давала поводов для знакомства с людьми правильными, проводящими день на службе, а вечер — в кино или у телевизора, зато в изобилии предоставляла общение с дворниками, мусорщиками, грузчиками магазинов и с людьми просто болтающимися, живущими неизвестно чем и все-таки живущими, — другими словами, со всеми, кому улицы, скверы, дворы служат жильем и кто существует на улице так же непринужденно, как иные — в своих собственных квартирах.
Среди этого люда встречались персоны весьма примечательные, и из них для поэта, пожалуй, наиболее был любопытен немой Феликс, которого про себя поэт называл «черный скрипач». Сначала его поразила известность этого имени — немой был одинок и по имени сам, естественно, не представлялся, но тем не менее всюду, от Мойки и до Канала, по всем улицам и у всякого пивного ларька, каждый знал Феликса. Сам город хранил его имя, представлял новичкам и заботился, чтобы это и так уж обиженное его дитя не влачило жизнь безвестно и безымянно. Второе же удивление поэта, связанное со скрипачом, было литературного свойства. В одном из его сочинений возник персонаж, похожий на Феликса, и на поэта напало упрямство не копировать имя, а заменить его; он промучился несколько дней, и оказалось, что если писать об уличном немом скрипаче, то назвать его можно лишь Феликс и никак иначе. После этого он для себя и прозвал Феликса черным скрипачом — за черноватую смуглость лица, за угольный цвет глаз, за черную хотя и оборванную, но всегда черную одежду.
Черный скрипач играл во дворах и просто на улице, когда ему вздумается, останавливался и начинал играть, не интересуясь присутствием слушателей; денег не собирал специально, но если давали, брал.
Поэт за ним вскоре заметил престранное чудачество: раза два или три он тащил куда-то старые картинные рамы, подобранные, видимо, на помойке.
А однажды он увидал черного скрипача, входящего в дом на Мойке, с лепными ящерицами на фасаде, в пустой и заброшенный, предназначенный для ремонта дом; часть окон была выбита, и они смотрели в воды реки черными глазницами. Это было уже по-настоящему интересно, и поэт в тот же день посетил этот дом.
Он вошел в вестибюль, и гулкое эхо где-то наверху, в сводах, еще долго хлопало дверью. Под ногами кровавыми брызгами алели осколки стекла из разбитого витража; не зная сам почему, он шел осторожно, стараясь не наступать на них.
Он поднимался по широким истертым ступеням и слушал, как сверху навстречу ему по лестнице эхо ведет его же шаги, словно невидимого двойника, а вскоре такой же двойник появился и снизу, точно под ним, этажом ниже он повторял каждый шаг его, каждый вздох, каждый скрип башмака.