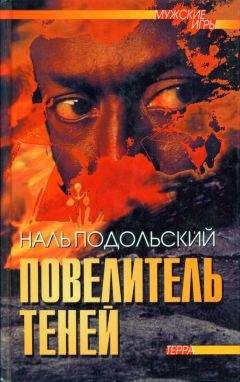Пламя свечей вытягивалось все выше, и стало светлее. В темном золоте рам трепыхались отблески свечек, а картины сияли темно-красными, изумрудными и удивительной прозрачности голубыми красками. С полотен смотрели мужчины в камзолах и кружевах, во фраках, в мундирах; и женщины, с ясными ласковыми глазами, с покатыми плечами, в открытых платьях, — лица грустные и веселые, внимательные и безразличные, но все поразительно спокойные и приветливые. И у поэта мелькнуло тоскливое чувство — не зависть, а смутная горечь, будто среди этих лиц он когда-то жил, но это давно уж забыто и утеряно навсегда.
— Смотрите, смотрите же, юный поэт! Загляните, поэт, в эти лица, встретьтесь с ними глазами! Знали вы в своей жизни хоть секунду такой безмятежности? Видели хоть раз человека, в чьем лице было бы столько покоя? Вам ли тягаться в гармонии с ними, окруженными ею с детства?
Они перешли в следующую комнату, и здесь тоже висели картины. Музыка доносилась тихо, и казалось, портреты внимательно к ней прислушиваются.
Поэт бережно вел свою спутницу, обходя выбоины в паркете, и радовался доверчивости, с которой она опиралась на его руку. Он потом не мог вспомнить, о чем они тогда говорили — а может быть, даже разговоров и не было, — но у него от этой прогулки осталось впечатление удивительной близости и счастливого понимания каждого слова, каждого жеста друг друга.
Так они миновали еще один зал с картинами, и к поэту закралась мысль, которую он всячески от себя отгонял, ибо она не вязалась с состоянием блаженного парения, в котором он пребывал, с безграничной нежностью к его спутнице, и все-таки она, эта мысль, прочно угнездилась в глубине его сознания: откуда здесь столько картин и как они могли сохраниться, — в общем, не дурачит ли его профессор гипнозом?
Стыдясь этой мысли, он не мог от нее отделаться и испытывал непреодолимое желание потрогать какое-нибудь из полотен, инстинктивно предполагая проверку наощупь вполне убедительной.
— Взгляните, юный поэт, взгляните на эти ниточки трещин, — раздался рядом каркающий голос, и тонкие пальцы профессора коснулись холста, — только старая живопись излучает покой… не успевшая потрескаться краска будоражит, сеет смятение, электризует…
Поэт тоже протянул руку, все еще опасаясь, что его пальцы пройдут сквозь полотно беспрепятственно, ничего не встретив.
— Смелее, смелее, юный поэт! — подбодрил его профессорский голос.
Поэт ощутил плотность слоя масляной краски, прохладу ее и приятную гладкость, и, действительно, от нее исходило, проникая через кончики пальцев, настроение невозмутимости и покоя.
Это действие было столь сильно, что, убрав от холста руку, он почувствовал себя беззащитным, и тотчас ему стало казаться, что со спины на него смотрят чьи-то недружелюбные и любопытные глаза.
Он оглянулся — у дальней, плохо освещенной стены улавливалось шевеление. Его спутница это тоже заметила — понял он по тому, как напряглась вдруг ее рука.
Всматриваясь уже вместе, они разглядели большой, окаймленный тяжелой рамой портрет. Рука ее вздрогнула и напружинилась еще больше, а у поэта подступивший уже было гадкий страх сменился радостью и благодарностью к ней: если ей тоже не по себе, значит, какие бы здесь злые чары или бесовщина ни действовали, она им чужая, она с ним, они вместе. Желая ее защитить, он обнял ее за талию и почувствовал, как к ней возвращаются спокойствие и легкость.
Профессор удивленно к ним обернулся.
— Он шевелился, — сказал поэт, прося у нее взглядом поддержки.
— Он шевелился, — подтвердила она, как показалось поэту, чуть весело.
— Все юные слишком мнительны, — произнес профессор высокопарно и с усмешкой, обращенной скорее к портрету, чем к ним, — вам обоим пора уже знать, что живопись при свечах оживает. Если вам кажется, что портрет покидает раму, — словно читая лекцию на ходу, он прошагал к портрету, и краски его засияли от огней свечек, — нужно пристально поглядеть ему в глаза, и все вернется на место!
Поэту опять почудилось, что он обращается не к ним, а к портрету.
Там был изображен перс не перс, индус не индус — поэт не очень-то разбирался в подобных вещах, — какой-то восточный повелитель, и поэт сразу ощутил исходящую от него мрачноватую силу и властность.
Профессор поднес подсвечник поближе. Вспыхнули на полотне драгоценные камни, на поясе и на рукояти сабли, заблестело золотое шитье одежды, засиял крупный, кровавого цвета рубин в белоснежной ткани чалмы, и сверкнули угольным блеском глаза портрета — чуть раскосые, умные и жестокие.
— Черный скрипач! — проговорил поэт, не зная сам почему, шепотом.
Рассеянно, как бы сомневаясь в существовании поэта, профессор поглядел на него, а может быть, сквозь него.
— Могучий дух… разрушитель… мятежный и страшный… давний враг и союзник… его путь скоро кончается…
Поэт испытывал неловкость, не понимая всех этих слов и чувствуя, что они не предназначены для его ушей. И спутнице его тоже они, видимо, были не очень ясны, к тому же и неприятны, и она недоуменно нахмурилась.
Профессор продолжил, все так же рассеянно:
— Теперь я с вами прощаюсь… идите и будьте счастливы.
В ответ она, вместо прощания, повторила фразу, сказанную уже ею раньше:
— Умоляю вас, Вольф, будьте разумны!
Она в темноте уверенно вела поэта за руку к выходу, спеша куда-то, и, опираясь на лестнице на его плечо, запыхавшись, говорила возбужденно и тихо:
— Как все странно и весело: я иду с тобою на бал… будет музыка, много людей, и мы с тобой вместе… вдвоем… я хочу танцевать с тобой… ах, я и забыла, разве поэты танцуют… но это неважно, ты все равно будешь со мной танцевать…
На улице было прохладно, и в руке ее чувствовалась легкая дрожь.
— Милый, скорее, скорее! Нам нужно успеть к двенадцати! Ты простишь ведь мне эту прихоть?.. Мы явимся ровно в двенадцать!
Они шли под деревьями, по мягкой сухой земле, и она бесшумно пружинила под ногами.
Но скоро, направляясь к мосту, они миновали последнее дерево, и первые же шаги по асфальту вторглись в тишину механическим жестким звуком. К нему на мосту прибавился режущий ухо скрип рассыпанного, как назло, тонким слоем песка. Было нечто неуклюже-неделикатное в их неумении перейти с одного берега на другой, не растревожив покоя ночных набережных.
На нее это тоже неприятно подействовало, и поэт чувствовал неловкость и даже невольную свою виноватость за явленную внезапно реальность мира.
Что-то вдруг изменилось. Рука ее лежала по-прежнему на его руке, но в прикосновении ее ощущалась теперь осторожность и напряженность; молчание, только что бывшее продолжением разговора, стало мучительным.