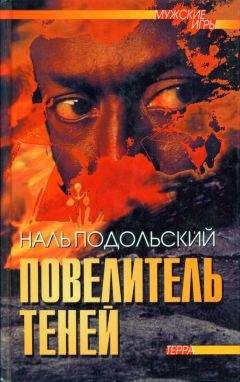Он поднялся и быстро пошел к двери, спеша встретить ту, что должна была сейчас войти, и зная заранее, что она прекрасна и что он сразу же будет отчаянно влюблен, да, впрочем, он уже был влюблен, а она, словно это само собой разумелось, задержалась на миг в дверях, поджидая его, а после шагнула навстречу и, радуясь ему, протянула руку. Его заворожило тепло и изящная простота этой руки, и у него не было сил отпустить ее, но это и не потребовалось, потому что, опираясь на его руку, она отправилась с ним в глубь комнаты, будто они встретились после долгой разлуки и вступали в покои собственного дворца.
Они шли не спеша и тихо, как ходят вдвоем счастливые люди, и поэту казалось, что идут они долго-долго, гуляя по саду, где вместо цветов зажженные свечи, их огоньки покачивались и, танцуя, проплывали мимо.
Он усадил ее в кресло и, садясь, придвинулся к ней вплотную, а диковинный сад из огней продолжал плыть, поворачиваясь вокруг них, и десятки пляшущих огоньков сияли в ее глазах, и он чувствовал, знал, что радостное это сияние — для него, и не хотелось ни говорить, ни двигаться, ни дышать, чтобы не спугнуть ощущение бесконечности этого мгновения.
Профессора он видел вдалеке, словно тот отплыл от них со своим креслом, и неясно было, услышит ли он, если с ним попытаться заговорить.
Но лишь только зазвучал ее голос, кресло профессора оказалось рядом, и они теперь сидели втроем, близко друг к другу, и вокруг них на своих восковых стебельках трепетали язычки пламени — цветы сада огней.
— Надеюсь, Вольф, вы не пугали поэта вашими фокусами?
Профессор сосредоточенно пускал к потолку кольца дыма, и она обернулась к поэту:
— Вы догадались, что здесь нет ничего сверхъестественного? Вольф — великий гипнотизер. Теперь его мало кто знает, а когда-то имя его — Вольфганг Вольф — не сходило с афиш Петербурга.
— И не одного Петербурга, — педантично и вяло добавил профессор, — и Берлина, и Стокгольма, и Вены… хотя это все пустяки, — он слегка оживился, — настоящая работа там, где афиш не бывает… Смотрите!
Он поджал под себя ноги, сел по-турецки в кресле и запыхтел трубкой, и трубка его вдруг вытянулась, так что вряд ли он смог бы дотянуться рукой до ее конца, глаза сузились и стали совсем раскосыми — вылитый Чингисхан, подумал поэт, — а из трубки начало выползать что-то черное, поднимающееся вверх в столбе дыма. Зазвучала тягучая мелодия, дым рассеялся, и стала видна черная большая змея — блестя роговыми чешуйками, она медленно раскачивалась под музыку.
Потом все исчезло опять в клубах дыма, и когда он рассеялся, профессор сидел в кресле, с потухшей трубкой, и выглядел очень усталым — лицо его посерело и руки слегка дрожали.
— Вы сегодня в ударе, Вольф. На меня ваш гипноз действует редко… Но умоляю вас, будьте разумны!
— Хорошо, хорошо, конечно… только ты ошибаешься: это был не гипноз… тут была настоящая королевская кобра, если бы я в тот момент умер, она осталась бы в этом доме… да, да, юный поэт, в этом доме может случиться все, что угодно… здесь перекрещиваются дороги разных миров… — он полузакрыл глаза и говорил очень тихо, — но мы здесь в последний раз… у меня уже мало сил… мне помогал другой… более сильный… во имя старой вражды… теперь это кончилось…
Поэт мало что понял из этой речи, но почувствовал, что за ней кроется нечто серьезное и тяжелое для профессора. Тот же закрыл глаза полностью и произнес медленно и отчетливо:
— Оставьте меня ненадолго… — он кивнул в сторону балкона, — я отдохну… и покажу вам свою коллекцию…
Под балконом фонарь не горел, и кругом все было темно. Поэт вглядывался в черные воды реки — в них плавало прозрачное отражение дворца с того берега и соседних домов; дома уже спали, лишь несколько окон желтыми пятнышками пробивали маслянистую воду.
За спиной его полыхали свечи, он чувствовал их тепло, и в осколках стекла, повисших кривыми зубцами в раме балконной двери, отражались мягкие кисти пламени и за ними сгорбленный силуэт профессора. Поэт пытался найти в отражении другой силуэт и другое кресло, и никак ему это не удавалось, пока он внезапно не увидел перед профессором два пустых кресла. Моментально его охватило неприятное оцепенение, и в воображении пронеслось столько темных мыслей и подозрений, что он даже успел удивиться своей готовности ожидать недоброе, — неужели все это гипнотические проделки профессора? Почему тот не назвал ее по имени? Неужто это… всего-навсего фокус? А как же ее рука — теплая, ласковая? Нет, нет, ни за что…
Резким усилием преодолев свою оцепенелость, он обернулся — она шла к нему и была уже рядом, и он видел: она понимает его беспокойство; и, как в первый миг ее появления, свечи вспыхнули ярче, а на улице, в теплоте ночи, стала слышна тихая музыка.
Они стояли опершись на перила, и шероховатость чугунной решетки приятно холодила руки. Пятнышки окон покачивались и уплывали по черной воде, словно река убаюкивала отражения не уснувших еще домов.
— Слышишь музыку? — Она наклонила голову к его плечу и говорила почти неслышно, будто опасаясь что-то разрушить в молчании города.
— Там бал, и нас с тобой ждут…
В окнах дворца напротив голубыми и розоватыми светляками загорались свечи, их становилось все больше, они переливались россыпью призрачных драгоценностей, и в их свете скользили тени — танцующие пары.
— Я хочу на бал… мы пойдем?.. Хоть ненадолго… а после гулять… или к нам… или лучше к тебе… мне кажется, ты должен жить где-нибудь высоко, в башне… близко к луне и звездам…
Огни дворца разгорались все ярче, и пение скрипок доносилось теперь отовсюду и наполняло ночь, словно в спящем городе начинался таинственный карнавал. Время остановилось и стало вдруг ощутимым; казалось, они сквозь него плывут, держась за руки, как в теплом фосфоресцирующем море.
Потом они снова шли через огненный сад, и лепестки пламени им кивали, в медленном хороводе танцуя под музыку.
Профессор их ждал, уже успев отдохнуть, и глаза его привораживали напряженным блеском. Пригласив их за собой нетерпеливым движением, он пересек освещенное пространство и шагнул в черноту открытой двери, ведущей в соседнюю комнату.
Он остановился в дверях и поднял повыше подсвечник, где ярким и белым пламенем горела пара тонких свечей. Пятнами, будто нехотя, отползала в углы темнота, и за ней проступало золотое мерцание — источник его поэт разглядел не сразу, — мерцание рам висящих по стенам картин.
— В этом доме, юный поэт, жил еще мой прадед… и уже тогда здесь были картины.
Они вслед за профессором шли вдоль стен, она опиралась на руку поэта, и он шел осторожно, ощущая ее прикосновение, как хрупкую драгоценность.