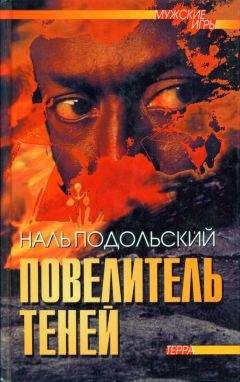Скорость движения жизни на ленинградских улицах замедлилась настолько, что происходившее казалось нам полуреальным, сновидческим, напоминало кинематографически-замедленный поток омнибусов и экипажей на Пикадилли перед глазами уэллсовского Человека-невидимки, живущего по законам ускоренного внутреннего времени. Или другое, более, может быть, точное сравнение, восходящее к знаменитой сцене ранения князя Андрея Болконского на Бородинском поле. Представьте себе, что вы смотрите на гранату, которая вот-вот должна взорваться у ваших ног, — ваше внутреннее время лихорадочно рванулось вперед, а все, что вокруг вас, словно бы обездвижело, застыло в ожидании ослепительной вспышки.
Мы стремительно и весело жили в ожидании катастрофы, мы распивали портвейн (а в худшие времена — самогон) в дворцовых парках и на крышах доходных домов, и утренний город лежал у наших ног, как прирученный, но еще недавно дикий зверь.
В одно из таких хмельных летних утр доцент и кандидат наук Наль Лазаревич Подольский, оставивший к тому моменту и преподавание на кафедре Кораблестроительного института, и карьеру археолога ради необременительной — сутки через трое — службы оператором газовой котельной, сказал слова, оказавшиеся в значительной степени пророческими:
«Начнись сейчас ядерная война или что-то вроде революции, распадись и пропади в тартарары вся эта большевистская империя, мы все равно будем вот так сидеть, и пить, и смотреть сверху на бесконечно прекрасный утренний город, пусть лежащий в руинах, но оттого не менее прекрасный. И все равно будем говорить о том, о чем говорим сейчас, — о живописи Босха, или об алкогольных галлюцинациях Гофмана, или, на худой конец, примемся всерьез обсуждать качество выпивки, потому что мы живем совсем в ином времени и в другом пространстве».
То был голос «теневой», другой культуры, взгляд на мимолетную жизнь с высоты тысячелетнего опыта, — взгляд, порожденный отчетливым и по сути изначально трагическим ощущением, будто подлинная реальность складывается не только из вещей, предметов и событий, явленных нам при ровном дневном свете очевидности и разума, но и немыслима без теневой подоплеки, вне присутствия мира невидимого, мира теней и призраков, для которых наши кризисы, войны и революции — тоже в свою очередь игра теней на стенах платонической пещеры.
Мы чувствовали, что живем на границе света и тени. И здесь-то, в приграничной полосе, где сделалось привычным ожидание рокового вторжения варваров последнего погрома библиотек, зародилась новая ленинградская литература, преображаясь постепенно в литературу петербургскую, то есть переживая метаморфозу, обратную кафкианской, — из коммунального таракана в нормального цивилизованного человека, не порывающего, впрочем, со смутными воспоминаниями о своем насекомом прошлом.
Мы приучились жить одномоментно в двух по крайней мере временах, и если не повторяли каждодневно, то уж точно держали в памяти строчки Тютчева, уличающие человеческую душу в некой фундаментальной раздвоенности:
Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов…
Однако поначалу трагическая раздвоенность душевного бытия воспринималась как странный, не по заслугам отпущенный нам праздник, как игра, но игра бескорыстная, чистая. В то время как будущие банкиры и предприниматели оттачивали свою оборотистость, свои коммерческие таланты на сочинских и коктебельских пляжах, кишевших отпускными лохами-инженерами, мы белыми питерскими ночами экспериментировали с самим процессом игры.
Мы играли в давно прошедшие эпохи, примеривали маски и музейные камзолы, реанимировали забытые правила экзотических китайских шахмат, проводили сутки за набоковскими крестословицами, запущенными в массовое производство каким-то умником, который не нашел ничего лучшего, как обозначить свой краденый товар пренебрежительным словцом «Эрудит».
Но чем причудливее, чем изысканнее были наши игрища — посреди дряхлеющей, гниющей и распадающейся империи, — тем больше в нас скапливалось горечи и сожаления. Сожаления не о себе самих, но о безымянных жизнях, промелькнувших над сонными водами каналов и речек. О живых душах, тающих в доконверсионном военно-промышленном петербургском дыму, чтобы снова явиться на свет из дыма, ничего при этом не помня о прежних своих посещениях.
Работа памяти всегда настраивает на несколько археологический и в то же время сентиментальный лад. Профессия игрока построена на постоянных обращениях к памяти — без этого не выиграешь. И поэтому игроки, как правило, циничны и суеверны (приметы и разного рода тайные знаки служат незаменимым мнемоническим подспорьем). Но если целью становится не выигрыш, а сама игра, то сентиментальность и суеверность приобретают совершенно иной смысл. Сентиментальный игрок — это уже потенциальный писатель. Ему остается сделать лишь шаг к письменному столу, только снять дерматиновый чехол с пишущей машинки «Москва», где буквы на разных участках клавиатуры окрашены в различные цвета — чтобы работали все десять пальцев, для каждой группы — свой цвет. Тоже игроцкая предусмотрительность — нечто вроде крапленой колоды. Дальше — дело техники.
2
Первая вещь Наля Подольского — «Повелитель теней» — которая, кстати, и дала название этой книге, была, как любят нынче выражаться политологи, заведомо обречена на то, чтобы войти в историю, независимо от предмета повествования, от качества прозы и даже от читательского интереса. Все это оказалось не столь важным в сравнении с местом и временем обнародования «Повелителя…». Дело в том, что этим длинным рассказом (или короткой повестью) открывался первый номер легендарного самиздатского ежеквартальника «Часы», вышедший ровно тридцать лет назад, в марте 1976 года. Иными словами, «Повелитель теней» есть не что иное, как пилотный текст для всего гигантского массива неофициальной ленинградской словесности, то самое ее «Слово», которое было в начале.
В этой непритязательной на первый взгляд вещи присутствуют практически все основные мотивы новой питерской субкультуры, ступившей на зыбкую почву превращения Ленинграда в Санкт-Петербург задолго, лет за двадцать, до того, как вопрос о репереименовании города был поставлен на голосование перестроечным горсоветом.
Чтобы обнаружить под слоем ленинградской копоти останки «блистательного Санкт-Петербурга», а затем реанимировать их, наделить плотью и дыханием, следовало взглянуть на окружающий нас мир глазами ребенка, для которого нет различия между предметом и его тенью. Я хорошо помню свой детский страх, что моя собственная тень отъединится от меня, заживет своей отдельной, более реальной, чем все «настоящее» жизнью. Потом, научившись читать, я узнавал этот сладкий страх и в старой немецкой романтической повести Шамиссо о Петере Шлемиле, продавшем свою тень черту, и в новосочиненной пьесе-сказке Евгения Шварца, где тень бунтует против своего хозяина, и во многих других книгах, в ряду которых «Повелитель теней», устроясь уютно и почти по-домашнему, сам подобен тени, отделившейся от прочитанных в юности сказок и получившей право на независимое существование.