Самого себя Хьюл в стариках не числил. Его папаша, несмотря на свои двести с хвостиком, по-прежнему выдавал в день по три тонны железной руды.
Но тут ему впервые довелось почувствовать себя стариком. Когда Томджон, приволакивая ногу, уковылял со сцены, душа Хьюла на один мимолетный миг вобрала в себя душу этого толстого старика-пропойцы, который, закусивши удила, бьется за истины, до которых давно никому нет дела, и все еще цепляется одной рукой за спинку фаэтона, несущегося по дороге времен, – одной рукой, потому что другой он показывает Смерти один весьма неприличный жест. Конечно, все эти переживания были не внове Хьюлу, все это он пережил, когда писал роль. Пережил, но не прожил.
Однако новая пьеса подобным завораживающим действом не обладала. Ее давали несколько раз – просто чтобы посмотреть, как пойдет. Нет, до конца спектакля никто не расходился. Но после его окончания театр пустел буквально за одну минуту. Никто не бросал на сцену тяжелых предметов. Ни один человек не дал на нее нелестный отзыв. На нее просто никто не отзывался.
Как же могло такое случиться с пьесой, оснащенной всеми необходимыми составляющими успеха?! Не в традициях ли театра показывать зрителю, как злые правители получают в конце концов по заслугам? А образ ведьмы всегда считался лакомым кусочком сценического действа. Появление в пьесе Смерти вообще следовало считать находкой. А какие великолепные реплики были у Смерти! И все же… Слепо перемноженные, все эти блестящие детали дробились, мельчали и превращались в этакую шумовую завесу, которая в течение двух часов творилась на сцене.
Поздно ночью, когда актерская братия наконец отходила ко сну, Хьюл забирался в какой-нибудь фургон и начинал яростно перекраивать свое детище. Он переписывал сцены, вычеркивал целые монологи, вставлял на их место новые, однажды надумал ввести в сюжет шута, лично отрегулировал некоторые из недавно приобретенных машин. Все усилия пропали втуне. Пьеса напоминала некую замысловатую картинку, которая с близкого расстояния одаривала россыпью прелестных откровений, но превращалась в мутную кляксу, стоило отступить от нее всего на два шага.
Когда вдохновение убыстряло ход, Хьюл даже пытался менять стиль. Те актеры, что вставали пораньше, постепенно привыкли к зрелищу лужайки, усеянной по утрам отходами сценического производства, напоминающими белые литературного вида грибы.
Один из самых странных перлов Томджон даже сохранил.
1‑я ведьма. Он что-то не торопится.
(Пауза.)
2‑я ведьма. Он обещал явиться.
(Пауза.)
3‑я ведьма. Он обещал, но так и не явился. У меня последний тритончик остался. Припасла для него, а он взял и не явился.
(Пауза.)
– Вот что, – не выдержал наконец Томджон, – тебе нужно отдохнуть. С заказом ты справился безукоризненно. Никто не требовал, чтобы ты сочинил нечто сногсшибательное.
– Этого требую я сам, – ответил Хьюл. – Чего-то здесь не хватает, никак не могу понять чего.
– Ты абсолютно уверен в необходимости привидения? – спросил Томджон. Судя по тону его голоса, сам он в необходимости призрака не был столь убежден.
– Оставь в покое привидение! – рявкнул Хьюл. – Сцена с призраком – вообще лучшее, что я когда-либо написал.
– Я просто подумал, что, может, это лучшее стоит приберечь для другой пьесы?
– Привидение не обсуждается. Кстати, зрители уже ждут.
Спустя пару дней, когда бело-голубая громада Овцепиков уже заслонила весь пупсторонний горизонт Диска, на труппу напали разбойники. Впрочем, особого переполоха нападение не вызвало: актеры, положив немало сил, чтобы перетащить вброд свои фургоны, отдыхали в тени небольшой рощи, которая и разродилась вдруг шайкой злоумышленников.
Хьюл обвел взглядом полдюжины заляпанных кровью и изрядно заржавелых клинков. Владельцы клинков, похоже, не вполне ясно представляли себе, что делать дальше.
– Минуточку… У нас тут где-то есть квитанция… – пробормотал Хьюл, но тут же получил тычок в бок от Томджона.
– Что-то они не похожи на воров из Гильдии, – прошипел юноша. – По-моему, это вольные клинки.
Здесь стоило бы уверить читателя, что главарь шайки представлял собой этакое чернобородое, самодовольно пыжащееся животное с красным платком вокруг шеи и золотой сережкой в одном ухе, а нижней частью его лица можно было чистить котлы… Что ж, мы не будем пытаться оспорить очевидное. Хьюлу, правда, на миг подумалось, что деревянная нога – это уж чересчур, однако, надо отдать должное, злодей хорошо справлялся со своей ролью.
– Здрассьте, здрассьте, – промолвил главарь. – Ну-ка кто у нас здесь? А денежки у нас имеются?
– Мы актеры, – ответил Томджон.
– Это ответ сразу на оба вопроса, – добавил Хьюл.
– И очень неостроумный, – хмыкнул разбойник. – Я бывал в городе и знаю, что такое настоящая шутка… – Обернувшись к соратникам, главарь предупредительно выгнул бровь, указывая, что его острота будет куда смешнее. – И если вы будете вести себя неосторожно, я пошучу с вами куда острее.
Слова были встречены гробовым молчанием. Нетерпеливым жестом главарь дернул вложенную в ножны саблю. Со стороны разбойников послышался неуверенный смех.
– Ладно, давайте к делу, – сказал он. – Вам всего-навсего придется пожертвовать нам лишь все деньги, что у вас есть, все ценные вещи и съестные припасы, а также одежду, которая у вас точно имеется.
– Минутку внимания, – устало выговорил Томджон.
Прочие участники труппы дружно сделали шаг назад. Хьюл ухмылялся, не поднимая головы.
– Собираешься молить о пощаде? – снисходительно буркнул главарь.
– Угадал.
Хьюл засунул руки в карманы, устремил взгляд в небеса и принялся что-то тихонько насвистывать, пытаясь удержать в повиновении расплывающиеся в ехидной усмешке мускулы лица. Другие же актеры не спускали глаз с Томджона, явно смакуя предстоящую сцену.
«Сейчас им придется выслушать монолог о милосердии из «Троллевой сказки», – успел подумать Хьюл.
– Я хотел сказать вот что… – произнес Томджон, незаметно перенося вес тела на одну ногу, понижая голос и картинно откидывая в сторону правую руку. – «Не тот муж славен меж дружины, что ратной злобою иль алчностью свирепой…»
«Похоже, все закончится так же, как некогда в Сто Лате, – думал Хьюл. – Но тот разбойник был один, он даже отдал нам свой меч. А куда нам девать шесть клинков? Особенно не люблю, когда эти типы начинают рыдать…»
Продолжая декламировать, Томджон вдруг увидел, как воздух подернулся зеленоватой дымкой. А еще через мгновение ему показалось, что он слышит голоса:
– Гляди, матушка, какие-то вооруженные люди!
– …Кто сталью вороною искромсал божественный цветник… – изрек Томджон.
– Чтобы мой король просил о пощаде у каких-то разбойников? – отозвался чей-то голос. – Ну-ка, Маграт, подай мне вон тот кувшин с молоком!
– И, млеком милосердия вспоенное, то сердце расцветет…
– Его мне подарила моя тетя…
– …Корона из корон, венец нерукотворный.
Вновь воцарилась гробовая тишина. Двое бандитов молча рыдали в ладони.
– Ты все сказал? – произнес наконец главарь.
Пожалуй, впервые в жизни Томджон несколько смутился.
– Э-э-э… Ну да. Разумеется. Э-э-э… Может быть, мне повторить?
– Хорошая речь, – одобрил разбойник. – Но я-то здесь при чем? Я – человек практичный. В общем, приступайте к сдаче ценностей.
И его клинок, проделав несколько пассов, остановился у самого кадыка юноши.
– А вы что столпились, как идиоты? – обратился главарь к остальным актерам. – Делайте, что говорят, не то вашему парню крышка.
Юный Притчуд робко вскинул руку.
– Чего? – рявкнул разбойник.
– П-п-прошу п-п-прощения, сир, н-но вы внимательно слушали?
– Так, больше я повторять не буду. Или я сейчас же услышу звон монет, или вы услышите бульканье крови!
В действительности же обе стороны услыхали свирепый свист, начавшийся высоко в небе и закончившийся попаданием в разбойничий шлем кувшина с молоком, который за время полета успел порядком заиндеветь.
Уцелевшая часть шайки, бросив взгляд на печальный исход, поспешила сделать ноги.
Актеры разглядывали поверженного разбойника гораздо дольше. Хьюл пнул башмаком осколок льда.
– Красота… – слабо промычал он.
– Он даже понять ничего не успел! – пробормотал Томджон.
– Родился критиком и умер критиком, – заключил гном.
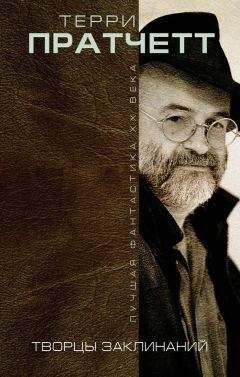



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)