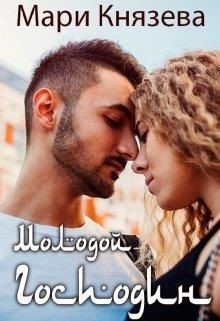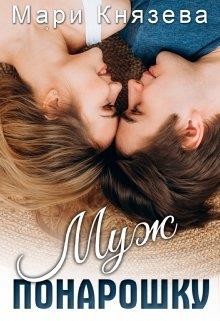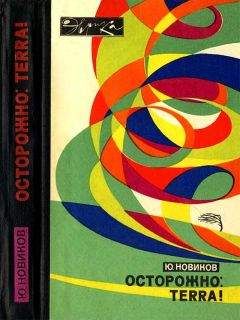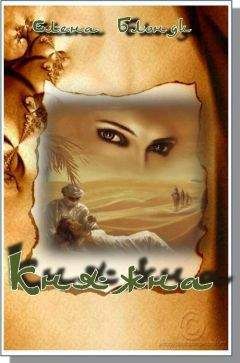— А давай ее замуж отдадим! Вон, хоть за Слава. Пусть ему нервы ест. Или сам на ней женись, она ж от тебя без ума.
— То есть пусть она мне нервы ест? Спасибо. Мне тебя хватает.
— А чего ты меня сюда поволок? Там вон полбара на все согласных было. Сидели бы тихонько замужем и счастливые пузыри пускали.
— Мне нужна была Мэри-Энн.
— Вот же брехло! — восхитилась я, пристраиваясь на выступающую на ладонь нижнюю часть книжного шкафа.
Фигура сидящего нога за ногу Анатоля приобрела очертания.
— Я?
— А кто мне днем пел, что в бар просто выпить пришел, спасатель-экстремист?
— Я туда за этим и пришел, а тут ты.
— Ну да, как же! А ты весь такой белый и пушистый! — я подползла чуть ближе и зависла на краешке. Шкафа дальше не было, но лицо жуковатого канцлера просматривалось почти хорошо. Ноги распутал, развалился и глазами блестит.
— Мимо.
— Что? — опешила я.
— Не белый и не пушистый.
О! Кстати о тварях.
— Ваша светлость, не потрудитесь ли пояснить этимологию некоторых понятий? В особенности меня интересует, что есть «бесь», «ничтошная тварь», и какой-то Светлый, которого княжнин папенька поминал.
— С бесем ты сегодня на балконе зажималась, ничтошные твари лезут из-за границы с Ничто, когда завеса, отделяющая от него мир слабеет. Обычно предвестником является как раз снег и холод. Странно то, что граница цела, а снег есть.
— А по щучьему веленью, по моему хотенью, тут не работает?
— Нет. Но с тобой… я бы не исключал.
— А Светлый, что за фрукт?
— Надо же людям в кого-то верить.
— Так, ладненько, было увлекательно, но я пойду, а то жених разволнуется, и папенька заругается.
Я встала, шагнула, наступила. С выступа шкафа, к двери, на подол. И полетела.
Упрямство, черта семейная, а упрямым, как правило, зовут некое рогатое парнокопытное с крепким лбом, коим сей достойный представитель фауны любит сносить любые препятствия у себя на пути. Анатоль препятствием не был, а длинный подол в ногах — был. Но канцлера это не спасло.
Пока ненаследный пытался вдохнуть после лобовой атаки в живот, я старалась представить, насколько органично будут смотреться на моем лице четкие оттиски пуговок.
Дверь открылась.
Здрасьте, мама.
Я перед Анатолем на коленях, мои руки на коленях Анатоля, перед глазами только что были нижние пуговки камзола, а теперь — герцогиня Серафин дор Лий, старшая дама королевского двора и прочая. Что я могу сказать… малиновые уши были демо-версией.
21
— Анатоль? — в голосе герцогини смешалось смущение, удивление, возмущение и родительская укоризна.
Я, багровея, принялась тихонечко отползать, а канцлер закрыл руками лицо и затрясся. Мы с мамой обеспокоенно переглянулись. И тут до меня дошло — эта скотина беззвучно ржала.
Господи, какое позорище. Да еще и перед Серафин.
Так как в дверях стояла герцогиня, я рванула на заснеженный балкон. Благо, с направлением тут ошибиться было сложно.
Промчалась по лесенке, пробежала до первых поддавшихся дверей и ввалилась в душный зал, полный народа. Меня сразу сцапали.
— Попалась, — проворковал над ухом Вениан, немного брезгливо освобождая меня от влажной от снега зацепившейся за что-то сзади шали Молин. — Потанцуете со мной, цветочек?
— С вами, хоть на край света, ваше высочество, — ответила я, нежась в теплых объятиях.
Вот и хорошо, вот и прекрасно. Тепло, светло, спокойно, танцы, жених и никаких Толиков, а тем более, мам. Дышала я тяжело, грудь взымалась в пене кружев, принц благоговел. Помните, да? Тугой корсет и танцы, так себе сочетание. А еще побегала. Благо, огненное зелье успело на морозе выветриться, а то овевала бы тут сейчас его высочество фимиамами. Во рту пересохло, было бы неплохо попить, или выпить чего-нибудь легкого, а то кругом один стресс, а мне сказку обещали.
— Бокал вина? — поинтересовался Вениан и протянул высокий с белым и игристым. — Я помню, розовое не предлагать.
Все, я его почти люблю.
— Вы не устали? Не хотите присесть? — меня настойчиво и недвусмысленно повлекли к уже знакомой нише.
— Ваше высочество! А как же папенька? И ее величество опять решит, что я скандал устраиваю.
— Мы тихонько прошмыгнем, никто и не заметит, моя мышка, — приобнял и кожу на сгибе локтя пощекотал.
Искорки разбежались по венам, и я позволила себя увлечь. Обстановка была прежней: светильничек, диванчик, столик, на столике два бокальчика, белое игристое в ведерке со льдом, фрукты на шпажках. Подготовился, уважаю. Но Вениан повосхищаться не дал, сразу скогтил и принялся осыпать поцелуями, методично начав с пальцев, пока не подобрался к губам. Если сюда кто-нибудь зайдет — устрою скандал. Я свободная, пока еще, женщина и желаю снимать стресс. Было бы неплохо сначала от корсета избавиться, но это детали.
Наполненные искрами голубые глаза жениха были похожи на глубокое озеро, в котором отражаются крупные августовские звезды. Я сидела у принца на коленях, подол бесстыдно задрался до середины бедер, одна рука Вениана поддерживала меня за нижнее кружевное, а вторая оглаживала кружева повыше. Мои руки перебирали гладкие, как шелк, пряди цвета бледного золота и останавливаться не желали. Вениан отстранился сам.
— Такая страстная! — горячо дохнул в шею, скользнул губами по ключице. — Ждать свадьбы становится все сложнее.
Ссадил меня с коленок, платье мне в порядок привел, и бокальчик в подрагивающие руки сунул.
— А можно завтра? — спросила я, после того как в запале выхлебала больше половины.
К черту! Вот красивый обходительный мужик, да еще и принц, замок, балы, наряды, желай не хочу и долго и счастливо по первому требованию!
— Нет, моя ласточка, — улыбается и рисует у меня на запястье завитки голубыми искрами, — завтра у нас прогулка к озеру. А свадьба через неделю, а потом мы уедем к морю.
Ладно, уговорил, ради моря можно недельку и потерпеть.
Этим вечером светлейшая княжна Мари-Эн отошла ко сну, мечтая о море и… о море. И никаких Толиков.
***
Тогда.
Дорогой дневник. Во первы́х строках своего письма хочу сообщить, что здоровье мое хорошее, настроение… тоже есть, хоть и подустала я маленько на игрищах этих заморских, видно только для позору моего одно и созданных…
— Стержинская!
Меня пнули но ноге. Головушка, скорбно пристроенная на откосе окна, подоконник которого я грела своей обидой на весь мир, мотнулась и ткнулась в стекло. Резонанс вышел что надо.
— Вовыч, — я подняла на него наполненные невыразимой мукой глаза, — изыди, у меня от тебя в голове гудит.
— Экзорцизмы не прокатят, я хороший, а в голове у тебя гудит от дури.
— Это не дурь, это креативное мышление, — печально вздохнула я.
— Идем, там все наши тебя ждут.
— А ты, значит, посланец мира?
Вовыч нарисовал у себя пальцем над головой нимб и ручки молитвенно сложил.
— Что, прямо все? И генеральный?
— Генеральный особенно. Сказал, с таким игроком, как ты, стыдно, но весело.
— Не пойду, — надулась я.
— Ну, раз идти не желаешь, мне высочайшим повелением даровано эксклюзивное право хватать и тащить, а то там горячее стынет, а я голодный.
Эта жердь сгребла меня за униформу, закинула на плечо и, победно напевая «Грузчик, грузчик, парень работящий…» понесла прочь из раздевалки, даже не дав стащить с себя майку с логотипом фирмы.
— Маньяк! — зашипела я ему куда-то в район лопаток, но он услышал и… смутился.
— Стервинская ты, а не Стержинская. Зачем по больному-то.
— Что-то я не припомню, что те звуки, что ты издавал, были криками боли.
Меня поставили на пол. Вовыч смотрел серьезно.
— Знаете что, Мариана Игоревна…
— Вовыч, прости, я все, — сразу же пошла на попятный я. — Просто обидно было, когда все ржали. Нет, то, что конкуренты изголялись, так им положено, а вот свои могли и… Ладно, я б тоже поржала, если бы такое увидела. Поэтому идем уже, а то действительно неудобно.