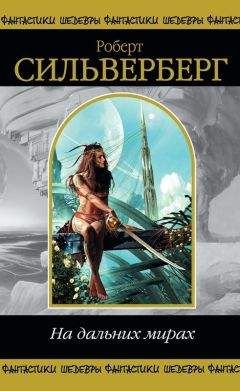— Мы были очень близки, Сибилла и я. Она умерла, и оказалось, что я для нее ничто. Мне так и не удалось это принять.
Я нуждаюсь в ней до сих пор. Мне даже сейчас необходимо разделить ее жизнь.
— Это невозможно.
— Я знаю. Но ничего не могу с собой поделать. Даже сейчас.
— Есть только одна вещь, которую ты можешь разделить с ней. Свою смерть. Она не снизойдет до твоего уровня — тебе предстоит подняться.
— Не говори глупостей!
— Кто говорит глупости, я или ты? Послушай, Кляйн: у тебя голова не на месте, и ты слабак, но ты мне не противен. За твою глупость я тебя не виню. Зато могу помочь, если, конечно, пожелаешь.
Гракх вытащил из нагрудного кармана металлическую трубку с предохранителем на одном конце.
— Знаешь, что это? Оборонительный дротик, какие носят все женщины в Нью-Йорке. Очень многие мертвецы имеют их при себе, потому что нельзя сказать, когда начнется реакция и нас начнут преследовать разъяренные толпы. Только у нас там не быстрое снотворное. Все просто: мы идем в любую забегаловку туземного квартала, и через пять минут начинается драка. В суматохе я подкалываю тебя дротиком, и через пятнадцать минут ты лежишь в глубокой заморозке в морге центральной клинической больницы Дар-эс-Салама. За несколько тысяч долларов мы отправляем тебя в Калифорнию, прямо во льду, а в пятницу вечером тебя воскрешают, к примеру, в «ледяном городе» Сан-Диего. Только так ты окажешься на той же стороне пропасти, где и Сибилла. И если вам суждено воссоединиться, другого пути нет. По ту сторону у тебя есть шанс, по эту — нет.
— Немыслимо!
— Ты хотел сказать, неприемлемо. Нет ничего немыслимого, если взять на себя труд подумать. Прежде чем сядешь на самолет в Занзибар, подумай. Обещаешь? Сегодня и завтра я буду здесь, потом мне надо в Арушу, встретить группу мертвецов и организовать охоту. Тебе достаточно сказать слово — и я сделаю все, как обещал. Подумай. Пообещай, что подумаешь.
— Я подумаю.
— Очень хорошо! И спасибо. Думаю, пришло время сменить тему. И пообедать. Как тебе этот ресторан?
— Не понимаю одной вещи: почему посетители здесь только белые? Дискриминация черных в черной республике? Кто на такое осмелится?
— Да, здесь дискриминация, но не черных, а черными, мой друг! — Гракх рассмеялся.— «Аджип» — не самый модный отель. Так что черных надо искать в «Килиманджаро» и «Ньерере». Но здесь тоже неплохо. Я бы порекомендовал рыбу, если ты еще не пробовал. И очень приличное белое вино из Израиля.
И будто — боже! — тяжко мне тонуть.
Какой ужасный шум воды в ушах!
Как мерзок вид уродливых смертей!
Я видел сотни кораблей погибших!
И потонувших тысячи людей,
Которых жадно пожирали рыбы;
И будто по всему морскому дну
Разбросаны и золотые слитки,
И груды жемчуга, и якоря,
Бесценные каменья и брильянты;
Засели камни в черепах, глазницах
Сверкают, издеваясь над глазами,
Что некогда здесь жили, обольщают
Морское тинистое дно, смеются
Над развалившимися костяками.
У. Шекспир. Ричард III. Перевод А. Радловой
— Израильское вино,— говорит Мик Донган.— Один раз в жизни я могу попробовать что угодно, особенно если это остроумно или иронично. Например, было дело в Египте: нас пригласили на ту знаменитую вечеринку на холмах близ Луксора. Хозяином оказался не кто иной, как саудовский принц в национальных шмотках с ног до головы, вплоть до солнечных очков. Выносят жареного ягненка, он ухмыляется эдак и говорит: «Разумеется, мы можем пить “Мутон Ротшильд” когда угодно, но вышло так, что в погребе у меня большой выбор лучших израильских вин. А поскольку мы оба, насколько я понял, любители пикантных контрастов, стюарду приказано открыть бутылку-другую...» Кляйн? — обрывает себя Мик.— Видел девушку? Только что вошла.
За окном моросит; на улице вторая половина дня, тысяча девятьсот восемьдесят первый год, январь. Вместе с шестью коллегами с кафедры истории Кляйн обедает в «Висячих садах» на крыше «Вествуд-плаза». Отель представляет собой чудовищный зиккурат на сваях, «Висячие сады» — ресторан в «неовавилонском» стиле на последнем, девяностом этаже. Все честь по чести: голубые и желтые изразцы, крылатые быки и фыркающие драконы, официанты в курчавых бородах, с кривыми саблями на боку. Вечером это ночной клуб, днем — факультетская забегаловка.
Посмотрев налево, Кляйн видит: действительно, красивая женщина лет двадцати пяти, с виду серьезная, сидит за столиком одна, поставив перед собой стопку книг и кассет. С незнакомыми девушками Кляйн не заговаривает из этических соображений, а также’ от врожденной стеснительности. Донган, однако, подзуживает:
— Чего ты сидишь, подойди! Девушка твоего типа, я точно знаю! И глаза такие, как тебе нравится!
Кляйн последнее время жаловался на то, что в Южной Калифорнии слишком много голубоглазых девушек. В голубых глазах ему чудилось беспокойство, даже угроза. У самого Кляйна глаза карие. У той девушки тоже: темные, ласковые, ясные. Кажется, он уже видел ее в библиотеке. Даже встречался взглядом, наверное.
— Иди! — требует Донган.— Не сиди столбом, Хорхе! Да иди же...
Кляйн молчит и свирепо упирается. Как можно вторгаться в частную жизнь женщины? Навязывать себя — почти изнасилование. Донган самодовольно скалит зубы, явно провоцируя, но Кляйн не уступает.
Тем временем, пока он колеблется, девушка улыбается сама. Так робко и мимолетно, что Кляйн не уверен, не померещилось ли? Ноги, однако, сами начинают действовать. Он уже идет по светлому плиточному полу, останавливается у ее столика, ищет подходящие слова, не находит — но им хватает обмена взглядами. Старая добрая магия. Кляйна поражает, как много они успели сказать друг другу глазами в этот невероятный первый момент.
— Вы кого-то ждете? — мямлит Кляйн.
— Нет.— Еще одна улыбка, уже не такая робкая.— Почему бы вам не сесть за мой столик?
Очень скоро Кляйн узнает, что она недавно получила диплом и уже поступила в аспирантуру. «Работорговля в Восточной Африке. XIX век». Особое внимание уделяется Занзибару.
— Как романтично! — хвалит Кляйн.— Занзибар — а вы там бывали?
— Никогда. Но очень надеюсь. А вы?
— Тоже нет. Но всегда интересовался им, с тех пор как мальчишкой начал собирать марки. Самая последняя страна в моем альбоме.
— А в моем самая последняя — Зулуленд.
Оказывается, она знает Кляйна по имени. Думала даже записаться на его курс лекций «Нацизм и его наследие».
— Вы из Южной Америки? — спрашивает девушка.
— Родился там, а вырос здесь. Дедушка с бабушкой бежали в Буэнос-Айрес в тридцать седьмом.
— Почему именно в Аргентину? Я всегда думала, там рассадник национал-социализма.
— Отчасти так и было. Но беженцы, для которых немецкий язык — родной, тоже стекались туда в огромных количествах. Не только бабушка с дедушкой, но и все их друзья оказались там. Из-за политической нестабильности пришлось уехать. В пятьдесят пятом, как раз накануне очередной большой революции. Так мы оказались в Калифорнии. А вы откуда?
— Моя семья британского происхождения. Я родилась в Сиэттле, папа на дипломатической службе. Он...
Появляется официант. Бутерброды заказаны торопливо и небрежно: обед отошел на второй план. Таинственный контакт держится...
Кляйн замечает в стопке книг «Ностромо» Джозефа Конрада; выяснилось, что она уже дошла до середины, а Кляйн на днях дочитал до конца. Совпадение позабавило. Девушка сообщает, что Конрад — один из ее любимых писателей. Кляйн соглашается: здесь их вкусы совпадают. Скоро становится известно, что оба любят Фолкнера, Манна, Вирджинию Вулф, даже Германа Броха, а вот Гессе недолюбливают. Даже странно. Как насчет оперы? «Вольный стрелок», «Летучий голландец», «Фиделио» — да!
— У нас тевтонский вкус,— замечает она.
— Мы любим одно и то же,— соглашается Кляйн.
Они уже держатся за руки.
— Удивительно.
Мик Донган улыбается глумливо из противоположного угла; Кляйн бросает на него свирепые взгляды. Донган подмигивает.
— Пойдемте отсюда,— предлагает Кляйн.
Она уже открыла рот, чтобы сказать то же самое.