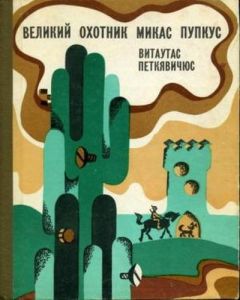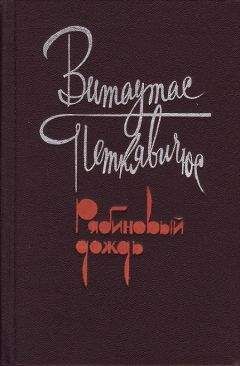Медведица потопталась, поострила когти о кору, поднялась на задние лапы и долго принюхивалась, поводя мордой. Сообразив, откуда идет запах, лениво полезла на дерево. Но у входа в дупло, где так заманчиво пахло, на ее пути очутилась колода. Медведица попыталась оттолкнуть бревно, оно закачалось на веревке из стороны в сторону, не пропуская лакомку. Медведица толкнула посильнее и сунулась было к дуплу, но получила увесистый удар. Рассвирепев, она двинула бревно изо всех сил, колода в тот же миг вернула удар. И заварилось… Медведица лупила колоду, колода лупила медведицу, в лесу отдавалось эхо глухих ударов. Удар, еще удар, колода ответила таким же, и медведица свалилась с дерева. Но не на землю, потому что охотники, пока она сражалась с колодой, успели расстелить под деревом сеть. Лакомка угодила прямехонько в расставленную ловушку и запуталась. Тотчас же к ней подскочили звероловы, опутали веревками, связали беднягу крепко-накрепко и уже собирались сунуть в клетку, как вдруг из берлоги вылез огромный медведище. Увидев, что сотворили непрошеные гости с медведицей, он ринулся в бой, только клочья от сети полетели во все стороны.
Мои новоявленные приятели кинулись за ружьями, но медведь оказался проворнее — раскидал их по сторонам, как горошины из стручка, и приготовился на меня навалиться. Да не на такого напал. Я — бац! — в него резиновым снарядом, в который сонное зелье было налито.
Зверюга его лапами — хвать! и стал давить-мять. Но чем яростнее он старался, тем глубже медицинские иглы в шкуру вонзались, тем больше лекарства под кожу вливалось. Медведь двигался все медленнее, потом совсем осоловел, поник, опустился на мураву, зевнул несколько раз во всю пасть и заснул, даже спокойной ночи не успел своей медведице пожелать. Положил голову на пень и захрапел.
Вторым зарядом я пальнул в медведицу. А когда и она захрапела, пошел искать хитроумных охотников. Да где там, ни слуху — ни духу! Наконец увидел одного — голова увязла в болоте, ноги в воздухе болтаются. Вытащил я его, протер лопухом глаза, перевязал листьями свернутый набок нос и поцарапанные уши. Второй повис на самой верхней ветке корабельной сосны. Снял я его осторожно, стал поливать родниковой водой, слышу — третий стонет под грудой листьев. А остальных медведь забросил в заросли шиповника. Тянут они друг у друга занозы из мягкого места и подвывают хором. Такой концерт устроили…
— Так вам и надо, — говорю им, любуясь, как спящие медведи сладко чмокают губами, верно, во сне медом лакомятся, и повизгивают — должно, пчелы жалят лакомок. Их детеныша, совсем маленького медвежонка, я выволок за шиворот из берлоги и взял себе как охотничий трофей. Будет, думаю, у меня маленький сувенир на память об охоте на медведей. Да не хотелось мне, чтоб такого малыша выставляли в зверинце на обозрение всяким зевакам. Пусть растет на свободе.
Три недели спали медведи, три недели лечились незадачливые звероловы от царапин и три недели благодарили меня за то, что подоспел вовремя, за мудрый совет и за рецепт сонного зелья. А потом предложили самую почетную охоту — застрелить парящего над лесом орла.
Я решительно отказался.
— Дело хозяйское, не хочешь — не стреляй, — сказал мне зверолов-старейшина. — Только мой тебе совет: не поленись, достань из гнезда орлиное яйцо. Вылупится орленок — получишь помощника на охоте, какого свет не видывал, и нас добрым словом поминать будешь.
Поразмыслив, я согласился.
Так-то!
Не все человеку на пользу, что волку во вред.
Солнце еще не взошло, а мы уже выбрались в горы. Поднимались, выискивая самые пологие места, но и перед отвесными скалами не пасовали, осторожно нащупывали ногой, прочно ли держатся камни, и двигались вперед. Чем выше, тем заметнее редел лес. Потом его сменили кустарники, низкорослые березки-карлики. В конце концов остались только просторные луга, сочные, зеленые до синевы.
А что за воздух здесь был! Прозрачный, чистый, душистый от множества цветущих трав. Уселись обедать. После обеда разбили лагерь и только на следующий день начали штурм вершины. Орлы, учуяв в своих владениях людей, всполошились, пронзительно кричали, верещали, как ярмарочные свистульки, описывали вокруг нас вираж за виражом.
На отвесной, нависшей над бездной скале мы приметили гнездо. Добраться до него можно было только сверху, спустившись с вершины другой, еще более высокой скалы. Ничего не попишешь, взобрались на нее. Звероловы обвязали меня веревками поперек пояса и стали опускать. А между тем из гнезда поднялась орлица, гневно заклекотала и кинулась на меня. Ох, и досталось же мне. Она драла когтями шубу, рвала мех клювом, только клочья летели из медвежьей шкуры, и ветер уносил их, будто снежные хлопья. Я защищался, как мог, пока кое-как отбился от хищницы и прочно утвердился на выступе скалы.
В гнезде лежали два пестрых яйца. Одно я сунул за пазуху, второе обложил поплотнее пухом, чтоб не остыло, и подал знак тянуть меня наверх. Не успел я повиснуть на веревке, как что-то просвистело возле самого моего уха и с грохотом ударилось о скалу, отскочило и рухнуло в пропасть. Я вертел головой во все стороны, но ничего не заметил. И только когда орел снова ухватил когтистой лапой здоровенный камень, поднялся надо мной и стал описывать круги, примериваясь, как половчее кинуть, я сообразил, что это за бомбы свистят возле моей головы…
Тянули меня звероловы и натужась и напружась, как мешок с мякиной, и наконец втащили на вершину. Но и здесь мы не были в безопасности, поэтому поспешили вернуться в лагерь и укрыться от преследования в палатках.
Перевел я дух и занялся орлиным яйцом: осмотрел со всех сторон, приложил к уху, послушал, поставил против солнца, посмотрел через кулак и понял, что оно высижено, недолго осталось дожидаться птенца. Махнул я рукой звероловам, айда, мол, и заспешил домой. По дороге набрал сухой травы-полевицы, мягкого мха, сплел гнездышко, выпросил у охотников курицу, которую они всегда носили как приманку для лисиц, и посадил ее на яйцо.
— А как мы без пеструшки будем лис ловить? — спросил у старшего зверолова средний, самый скупой.
— Не хнычь, куропатку вместо курицы приспособим, — ответил старший.
Я торопливо распрощался и тронулся в путь. Ехал, не скучал: все смотрел, как довольная курица мостится, укладывает яйцо и квохчет.
"Знала бы ты, квочка, — подумал, — на каком яйце сидишь, перья бы у тебя дыбом встали, небось, не кудахтала бы, как заботливая мамаша, а со всех крыльев кинулась наутек".
Так и ехали. Я трясся на коняге, курица — на орлином яйце, за нами трусил медвежонок, а позади, поджав хвост, тащился Чюпкус.
И вдруг вижу — две лисицы присели на задние лапы друг перед дружкой и выламываются, то ли танцуют, то ли топчутся, кривляются взапуски, так, что вороны со смеху покатываются. А лисы стараются: то вышагивают плавно и торжественно, то лихо подпрыгивают на двух лапах, то носами друг в дружку тычутся обнявшись, потом снова начинают строить рожи — ну, чисто обезьяны перед зеркалом.
Я сразу смекнул, в чем дело: лисы танцуют свой свадебный танец. Сообразить-то сообразил, да не подумал, что гости на свадьбе любят угощаться. Короче говоря, разинул я рот, засмотрелся и не заметил, как лисицына подружка у меня за спиной курицу — цап! — стащила и юркнула с нею в кусты. Когда мы с Чюпкусом опомнились, курицы и след простыл.
Что делать? То ли вороватую лису догонять, то ли самому на орлиное яйцо садиться. Хорошо еще, что поблизости оказалось залитое водой урочище. Добрых два часа мы с Чюпкусом старались, пока поймали утку-крякву и приспособили вместо курицы яйцо высиживать.
Еду дальше, а на душе неспокойно: "Может, остыло, может, все труды насмарку?" Тревожусь, но с Чюпкусом заговорить не осмеливаюсь, глаз с гнезда не спускаю, как бы еще какая кумушка не подкралась. Сцапает утку, ищи тогда ветра в поле…
Так в тревоге да заботе добрался я до бочки, залез внутрь и уснул. И на беду забыл поплотнее притворить оконце. Проснулся утром, а Чюпкус вокруг бочки носится, лает-заливается, будто ко мне под матрац кто чужой забрался. Протер я глаза и обомлел: лежит в гнезде яйцо голое, миска перед гнездом перевернута, утиные перья ветер носит, а на полу дохлая лиса валяется, язык из пасти вывалился, и не дышит.
— Поделом тебе, хищница ненасытная, — рассердился я, схватил лису за хвост и вышвырнул наружу. А сам уселся нож точить. Обдеру, думаю, с лисы шкуру, шапку себе знатную сошью.
Вышел из бочки, глядь туда, глядь сюда, а лису поминай как звали. Стукнул я себя по лбу: провела, обхитрила меня лукавая, как маленького вокруг пальца обвела. Сожрала она утку, бока раздулись, и не смогла лиса протиснуться в окошко. Вот и прикинулась мертвой, дожидалась, пока я собственными руками вызволю ее из неволи.