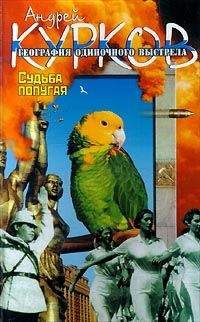— Ну, говори! — прошептал Кузьме Марк. Кузьма помедлил несколько секунд, напугав этим артиста. Потом заговорил, задекламировал. Сотни пар глаз смотрели на него.
— Грудой дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в партии. — Я и Ленин — фотографией на белой стене.
Что-то дернулось внутри у Марка. Чувствуя, как немеют руки и плечи, он суматошно пытался понять, что произошло. И тут, когда он наконец понял, — его затошнило. Да, попугай перепутал одно слово в стихотворении, одно, но какое! Что он сказал? Он сказал: «Двое в партии — я и Ленин…» «Господи, — подумал Марк. — Неужели это все?» Но боковым зрением Марк видел, что все зрители были спокойны и с интересом слушали дальше. Они, видимо, не заметили ошибки.
— Вы прослушали стихотворение «Разговор с товарищем Лениным» Владимира Маяковского, — дрожащим голосом объявил Марк и, не обращая внимания на аплодисменты, не кланяясь зрителям, похромал за кулисы.
В комнате для артистов уже никого не было.
Марк одевал плащ и с ужасом думал об этой глупой ошибке.
Это, наверно, из-за падения на пол, решил он.
Всунув Кузьму в скособоченную клетку, Марк вышел из комнаты.
Его и Кузьму арестовали на платформе Первых Кагановичей, когда до прихода местного поезда оставалось три минуты.
Осень в Сарске наступила внезапно, словно по указу. Казалось, в один день пожелтели листья деревьев, тучи опустились ниже и начали поливать город неприятным холодным дождем.
Добрынин и Ваплахов почти бегом, под одним зонтиком добрались до фабрики. В комнате контроля переоделись в синие комбинезоны и принялись за монотонную привычную работу. План по красноармейцам к концу сентября был перевыполнен, но пришло неожиданное распоряжение выпустить для октябрьско-поинерской демонстрации три тысячи надувных матросов. Чтобы успеть вовремя, восьмой цех работал в полторы смены, и контролеры с трудом поспевали проверять продукцию.
За обедом в фабричной столовой к ним подсел начальник отдела кадров Софронтов.
— Из Красноярской тюрьмы пришла благодарность директору за Зою Матросову, — сказал он. — Она там на носочной фабрике работает и план перевыполняет.
Добрынин был рад услышать эту новость.
— Да, — сказал он. — Кто из нас в юности не ошибался? — и тут же, задумавшись, добавил: — Я, правда, кажется, не ошибался, — но тут вспомнились ему японские революционеры и вся история с коммунистом Кривицким, сожженным на костре. — А может, и ошибался… но уже не в юности…
— Да и я ошибался, — махнул единственной рукой Софронтов. — А ты, Дмитрий, ошибался?
Ваплахов остановил возле рта ложку со щами.
— Сильно нет, не помню, — сказал он. — Нет, наверно.
В общежитие контролеры возвращались поздно и тоже под дождем.
— Здесь снег будет? — спрашивал по дороге урку-емец.
— Будет, будет, — вздыхал уставший Добрынин. — А что, соскучился?
— Да, — признался Ваплахов. — Очень соскучился. Помнишь, как он под ногами скрипит: хрып-хрып, хрып-хрып… Я к такому длинному лету не привык…
В общежитии их встретила комендантша.
— Я тут уже час вас жду, — заговорила она. — Очень важная бандероль пришла… из Москвы. Я расписалась в получении, а вас все нет… и так боялась, она у меня в сейфе с ключами, сейчас принесу…
И побежала по коридору к своей комнате. Нагнала их уже на третьем этаже. Добрынин как раз открывал двери.
— Вот, товарищ Добрынин! — запыхавшись, проговорила она, вручая контролеру большой бумажный пакет.
Уже в комнате Добрынин устало посмотрел при свете слабосильной лампочки, свисавшей с потолка, на пакет, и тут его словно подкосило. Он оглянулся — до стула возле стола было ближе, чем до кровати, и он сел за стол, опустив перед собой бандероль.
— Это что? — спросил его урку-емец, снимавший ботинки, сидя на своей кровати.
— От товарища Тверина… — негромко, все еще не веря своим глазам, сказал Добрынин.
Зашелестела жесткая упаковочная бумага. Добрынин разворачивал бандероль аккуратно, будто собирался еще раз использовать ее упаковку.
Наконец добрался до вложения: в бандероли оказалась книга и письмо. Руки сами потянулись к письму.
«Дорогой Паша!
Очень хорошо, что ты написал мне! Я все пытался узнать, где ты сейчас, но никто здесь этого не знал. Огромное спасибо за шинель и печенье. Шинель мне подошла как раз, и я свою старую, которая была мне слишком велика, попросил отдать в детский дом. Новостей у меня много — поэтому каждый день болит голова и из-за плохой памяти многое забываю. В Москве сейчас очень много немцев, и я, иногда выходя из Кремля, вижу их. Очень слабый и истощенный народ — почти скелеты. Просто удивительно, что мы так долго с ними воевали — должно быть, военные просчеты виноваты. В Кремле жизнь стала тише и спокойнее — умер наконец наш поэт Бемьян Дебный. Правда, последние годы он, кажется, ничего не писал, не знаю, что он делал вообще последние годы. Вчера я подписал приказ о расширении строительства автозавода в Москве. Вообще в стране сейчас много строек. Много в стране и бандитизма, и в Москве тоже. Просто изуверства какие-то — находят почти полностью обглоданных людей — только мужчин и очень часто боевых офицеров. Посылаю тебе «Книгу про Ленина», это третий том, он должен был выйти еще до войны, но не успели. Узнавал про твоих. Мария Игнатьевна жива и здорова, Григорий, твой старший сын, уже школьник, а младшенькая Маша у нас, в кремлевских яслях. Я ее как-то видел, конфетку дал…» — Какая младшенькая? — вырвалось у Добрынина. — Какая Маша?
Озадаченный, он вернул свой взгляд на письмо, отыскал последнее прочитанное предложение и продолжил:
«… Твой друг Волчанов — уже полковник, но со мной не здоровается. Не знаю, чем я его обидел. Просьбу твою о переводе в другое место передал товарищу Свинягину — он теперь отвечает за народных контролеров. Я его очень просил помочь тебе. Большой привет Ваплахову. Будешь в Кремле — обязательно заходи. Жму руку. Твой Тверин».
Дочитав письмо, Добрынин глубоко задумался. Удивляло его, что в письме не было ни строчки о Маняще, Пете и Дарьюшке. Но ведь Тверин сам письменно признался, что с памятью у него плохо — значит, забыл он о первой семье Добрынина.
— Что пишет? — спросил, присаживаясь за стол, Ваплахов.
— Тебе привет передает.
— Покажи! — не поверил Ваплахов. Добрынин показал часть письма с приветом для Ваплахова.
Урку-емец был счастлив.
— Пишет, что в Москве много немцев, поэт умер, начали строить автозавод, шинель ему подошла… правда, он только печенье с ней получил. О папиросах не написал — украли, наверно. Что тут еще? Убийства страшные в Москве… — и тут Добрынин вспомнил, как погиб комсомолец Цыбульник, и обглоданного коня Григория вспомнил он.
Было много общего между описанными в письме убийствами и смертью Цыбульника.
— Митя, — Добрынин посмотрел на Ваплахова задумчиво. — Помнишь, какой-то злой дух убил и обглодал комсомольца Цыбульника… и только это оставил, штуку…
Ваплахов кивнул.
— Что это было?
— Злой дух Ояси, — ответил урку-емец.
— А какой он из себя?
— Низенький, кажется, зеленый, — вспоминал Ваплахов. — Голова сверху плоская и наверху ямочка, а в ней вода… Это ведь болотный дух…
— Дай бумагу и ручку, — попросил Добрынин. Он быстро написал короткое письмо с описанием внешности духа Ояси и упомянул о смерти коня Григория и комсомольца Цыбульника. Запечатал письмо в конверт.
— Может, поможет им? — сказал он.
— А книга? — спросил Ваплахов.
— Про Ленина, третий том. — Добрынин взял книгу в руки бережно и с любовью.
Раскрыл начало. Потом поднял взгляд на Ваплахова.
— Прочитать тебе вслух? — спросил он.
— Давай чай сделаем и тогда прочитаешь! — предложил урку-емец.
Добрынин согласился. Вскипятили они на примусе чайник.
За окном шелестел дождь.
— «Смешной случай в Разливе», — прочитал вслух Добрынин название рассказа и поднял взгляд на Дмитрия.
Дмитрий слушал внимательно, и тогда Добрынин принялся читать сам рассказ:
«Дело было осенью. Верные друзья донесли Ленину, что агенты охранки ходят вокруг дома, в котором он снимал комнату. Приближалось время арестов, и Ленин понял, что надо было уходить из Петрограда. Он переоделся умным крестьянином, надел подаренный Кларой Цеткин парик, положил в чемодан красивую лампу, бутыль керосина, ружье на случай охоты и революционные брошюры. Потом взял чемодан и вышел на улицу. Агенты охранки, ходившие вокруг дома, не обратили никакого внимания на крестьянина с чемоданом. Отойдя от дома на полквартала, Ленин нанял извозчика, и вывез его извозчик за Выборгскую заставу. Оттуда уже Ленин пошел пешком, избегая деревень и хуторов. Несколько дней шел он по полям, лесам и тропинкам и наконец пришел в Разлив. Построил там себе шалаш из еловых веток и стал в нем жить, скрываясь от охранки. Днем прятался в шалашике, а вечерами зажигал керосиновую лампу, выходил с ней на полянку и читал там революционные брошюры.