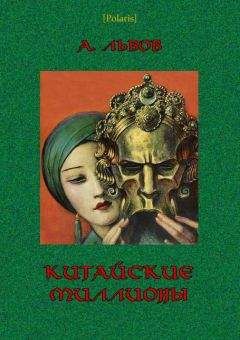— Нет, нет, дорогой Дон-Хозе, другой раз! Теперь у меня едва ли минута есть для беседы. Выслушайте меня здесь и, во имя вашей дружбы к моему покойному отцу, исполните мою просьбу. Я переживаю страшную драму… Меня только что отравили ядом, противоядие которого европейские доктора не знают… отравил один японец… из него хотя бы пыткой нужно исторгнуть название противоядия… Сейчас мой друг привезет его сюда… Дайте нам в виде кабинета такое помещение, откуда никто не может ничего услышать и… не удивляйтесь крикам, если вы их услышите. За ними вслед придет мой рулевой с катера, мой молочный брат… вы узнаете его по красной феске… Поместите его у двери кабинета, чтобы он мог войти по первому моему зову… Ради Бога, вы сделаете это?
— Все, все, что прикажет мне дочь друга, которому я всем обязан… Я нашел бы вам многое сказать, но вы говорите, что теперь поздно… вам лучше знать… Сюда, сюда пожалуйте.
Он вывел ее в боковую галерею и провел в последнюю дверь из ряда расположенных на ней. Это был большой роскошно обставленный и устланный коврами кабинет, окна которого над верандой выходили на набережную.
— В эту галерею и кабинеты я не прикажу никого пускать… Иду отдать приказания, но, ради Бога, объясните мне все, когда… когда вы успокоитесь.
— Завтра, завтра, друг мой, если Бог даст… Торопитесь теперь, — воскликнула Иза, и Дон-Хозе ушел.
Иза тяжело вздохнула, опустилась на стул около окна и задумалась, не видя перед собой ни чудной, блестяще иллюминованной Прайи и Грандо, ни далекого пика Виктории, фантастически освещаемого луною, то и дело нырявшей в быстро несущиеся по небу облака.
«Такой яд начинает действовать через 3–4 часа, — вспомнила она. — Час прошел уже… успеем ли мы. За что он убил меня? Сильна ли над ним власть того, ради которого я отравлена. Тут видна чья-то другая рука… женская. Надо узнать…»
Беспорядочные мысли ее были остановлены легким шумом подъехавшего дженрикши, из колясочки которого вышли Будимирский и Хако.
Она быстро отворила двери в коридор и через несколько секунд услышала голос хозяина: «Пожалуйте, пожалуйте сюда, — ваша дама ожидает вас».
Будимирский, такой же спокойный с виду, как и Иза, занялся меню ужина и вина и, пока сервировали то и другое, непринужденно болтал с Изой и Хако о вкусе некоторых восточных кушаний, об испанских винах и фруктах Китая и Японии, сравнивая все это с французской кухней, французским вином и фруктами Европы, приходя к заключению, что выше всего — умелая комбинация из всего этого… Хако почтительно слушал его, но изредка с беспокойством взглядывал на Изу, спокойную, но бледную и сосредоточенную.
Иза села спиной к окнам и лицом к двери, посадив против себя Хако, и в ту минуту, когда при входе китайца-лакея с грудою тарелок дверь оставалась некоторое время открытой, она увидела в стороне на галерее красную феску…
«Слава Богу, здесь» подумала она и, как бы мимоходом, бросила Будимирскому несколько немецких фраз, в которых предупреждала его о приготовленной помощи за дверью и участии к ним хозяина ресторана.
— Нет, нет, — ответил ей, улыбаясь, по-английски Будимирский, — я хочу непременно, чтобы мистер Хако испробовал здесь еще некоторые европейские кушанья, с которыми он должен будет примириться в Париже… Морской капусты, каленых яиц, саки и рису с перцем он там не найдет, — захохотал он.
— Но я в восторге, я очень рад, — перебил его Хако.
— Тем лучше, тем лучше, — а вот кстати и ужин, — воскликнул Будимирский. Он раньше приказал подать все сразу, вплоть до кофе в кофейнике на серебряной спиртовой лампе, а теперь отдал приказ лакею не входить без зова.
— Слушаю, сэр, — ответил прекрасно дрессированный лакей, хорошо знакомый с оргиями фарисеев-англичан из Гон-Конга и вдобавок получивший приказ хозяина строго подчиняться требованиям этих гостей и… ничему не удивляться. Иза почти не притрагивалась к кушаньям, Хако ел неохотно, а Будимирский быстро покончил с великолепным шатобрианом, тюрбо и трюфелями в салфетке, запил все это, усердно подливая Хако ароматный кло-де-вужо, разлил затем в плоские стаканы пенистое клико и поджег спирт под кофейником.
— Теперь мы можем побеседовать, — начал Будимирский, спокойно развалясь в кресле. — Пейте, Хако, и постарайтесь внимательно выслушать, зачем я… пригласил вас сюда.
— Я к вашим услугам, сэр, — пробормотал Хако, которому очень не понравился решительный, какой-то металлический тон собеседника и его блестящий взгляд, сразу сказавший японцу, что ему добра ждать нельзя… Он заерзал в кресле, оглядываясь на дверь.
Будимирский заметил это.
— Иза, милая, сядь на диван, а вы, Хако, будьте любезны занять ее место, — так и вам и мне будет удобнее, — предложил он, усадил Хако и занял его место, так что оказался между японцем я дверью. Об окнах, выходящих на крышу веранды, он не беспокоился, так как, еще войдя лишь в кабинет, приказал лакею закрыть их во избежание сквозного ветра.
Хако стало ясно, что он понят, и японец, с сильно бьющимся сердцем, ожидал наихудшего, не подозревая, однако, до какой степени он был понят. Будимирский очень скоро разъяснил ему это.
— Слушайте же меня, Хако, — продолжал Будимирский после пересадки. — Если не во всех деталях, то в общих чертах вам известно значение той великой миссии, с которой, по соглашению с главной жрицей Ситрева, я еду в Европу. Миссия эта, кроме материальных средств и всей моей энергии, требует безусловного моего душевного покоя, как можно меньше мелочной борьбы с разного рода препятствиями и осложнениями, дабы я всегда мог спокойно сосредоточиваться на главных, основных линиях моего плана. Об этом мы с Ситревой немало думали, и вот для помощи мне, для этой мелкой борьбы, для устранения мелких происшествий, она назначила вас и Моту здесь, на пути в Европу и… и многих других, которые отчасти находятся уже там, отчасти же еще в пути, — ловко врал авантюрист. — Для того же, — продолжал он, — чтобы все вы подчинялись мне, как ей, Ситрева дали мне этот, вам известный, амулет…
Будимирский вынул амулет из жилетного кармана и с многозначительным видом поднял его перед Хако, который почтительно поднялся, сильно побледнев.
— Аум! — произнес он, подымая правую руку, сложив пальцы в знак секты.
— Аум! — ответил ему тем же Будимирский.
— Как вы, так и Моту, так и другие, — продолжал он, — слепо подчиняясь приказу Ситревы, можете переусердствовать и… принять за препятствие участие, например, в деле третьего лица, вам неизвестного, можете путем насилия устранить такое препятствие, вами воображаемое, можете отнять у меня на самом деле весьма существенную для меня помощь… Согласны вы со мною?
— Я, простите, сэр, не совсем… понимаю…
— О, вы наверное понимаете меня… Я думаю, что для нас с вами в данном случае и полуслов достаточно… Впредь я вам приказываю под страхом смерти, — слышите ли вы? — каждый раз когда вы, следуя за мною и невидимо для других очищая путь мне, встретите то или другое препятствие — докладывать мне об этом и устранять его лишь с моего ведома, а теперь… я вам приказываю немедленно исправить сделанную вами ошибку…
— Сэр, я… не понимаю о чем вы говорите… — прерывающимся голосом бормотал перепуганный, недоумевающий еще, но смутно догадывающийся, что карты его открыты, Хако.
— Вам нужны пояснения? Извольте! — поднялся во весь рост Будимирский перед съежившимся в кресле тщедушным японцем. — Такое «препятствие», о котором я говорю, вы увидели в Изе, в этой девушке, без которой миссия моя не будет иметь успеха. Она неизвестна Ситреве, потому что я встретил ее после моего выезда из Тиен-Тзина, я же еще не успел сообщить жрице об обретенной мною громадной помощи… Вы сочли ее вредной и два часа тому назад отравили ее…
— Я! — вскричал Хако, вскочив. Он был страшен. Глаза его лезли из орбит, и челюсти тряслись.
Будимирский вынул амулет и поднес его к глазам несчастного, резко, раздельно и внушительно произнес:
— Потрудитесь немедленно дать ей противоядие, иначе… иначе я вас буду пытать… а если и это не поможет, вы не выйдете отсюда живым…
Хако трясся как осиновый лист: он не попадал зуб на зуб, и если бы хотел, не мог ответить Будимирскому. Настала томительная, ужасная пауза…
— С ним, кажется, столбняк будет, — воскликнула Иза, — скорее освежи ему лоб, дай выпить воды с вином, налей… вина крепкого…
Будимирский плеснул воды в руку, смочил лицо беспомощного японца и влил ему в горло полстакана хереса. Когда японец стал приходить в себя и глаза его, до сих пор дикие и неподвижные, забегали, Будимирский вновь спокойно и веско заговорил.
— Вот бумага и карандаш, — достал он из кармана бумажник, — пишите скорее…
Японец сидел теперь в кресле неподвижно. Он примирился с мыслью о смерти, решив не давать противоядия… да, амулет имеет великую силу, но прямой приказ Ситревы и клятва, ей данная, сильнее. Он умрет, но противоядия не даст. Смерть во имя долга сладка для фанатика, но в голове Хако блеснула мысль о том, что в этот час в многолюдном ресторане Будимирский не отважится на насилие, и он с быстротой молнии, мимо не ожидавшего этого движения Будимирского, бросился к двери, рванул ее и… очутился в мощных объятиях молодца-метиса, который, как ребенка, внес Хако в кабинет. Хако крикнул было неистовым голосом, но Будимирский быстро зажал ему рот. Руки Хако держал метис, и японец теперь не мог пошевельнуться…