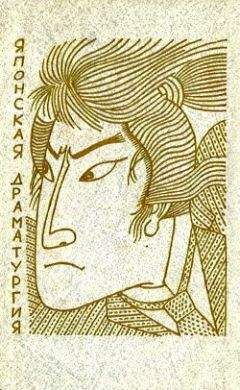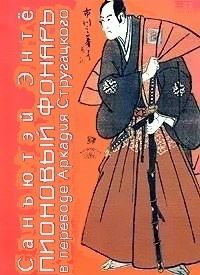— Ну, это уж слишком. Мне просто стыдно перед господином Гэндзиро. Как ты можешь так думать обо мне?
Гэндзиро, слышавший весь этот разговор, решил, что пора вмешаться. Он был человеком хитрым, как и всякий мерзавец, способный покуситься на наложницу соседа. Кроме того, в те времена положение самурая отличалось от положения простого слуги-дзоритори, как небо от земли. Гэндзиро вышел из комнаты и строго сказал:
— Что это ты там говоришь, Коскэ? Поди-ка сюда!
— Что вам угодно? — отозвался Коскэ.
— Я сейчас слушал тебя и поражался, — сказал Гэндзиро. — Ты намекаешь, будто мы с госпожой О-Куни находимся в непозволительной связи. Возможно, в свое время, когда за разгульное поведение меня изгнали из дома к родственникам в Оцуку, такие подозрения и могли иметь основания. Но сейчас я собираюсь идти в наследники, и накануне такого серьезного шага в моей жизни слушать подобные вещи я не желаю.
— А если вы сами изволите сознавать, что находитесь накануне такого серьезного шага, — сказал Коскэ, — то почему среди ночи приходите в дом к женщине в отсутствие ее господина? Вы сами, словно нарочно, навлекаете на себя подозрения в нехороших намерениях! А что мальчика и девочку с семи лет вместе не сажают, что по чужим бахчам с корзиной не ходят и под чужой грушей шапку не поправляют — хоть это-то вам известно?
— Молчать! — закричал Гэндзиро. — Не смей мне дерзить! А если я пришел по делу? А если мое дело не требует присутствия хозяина? Что ты скажешь тогда?
— В этом доме не может быть дел, которые бы не требовали присутствия моего господина, — сказал Коскэ. — Если вы такое найдете, можете поступить со мной, как вам благоугодно.
— На, читай! — сказал Гэндзиро и швырнул Коскэ лист бумаги.
Коскэ поднял лист. Это было письмо.
«Господину Гэндзиро. Позвольте напомнить Вам, что ловить рыбу на Накагаве мы отправимся, как было условлено, четвертого числа будущего месяца. Поэтому прошу Вас об одолжении: если у Вас будет на то желание и свободное время, хотя бы даже и ночью, не сочтите за труд зайти в мой дом и починить рыболовную снасть, которая у меня пришла в негодность. К сему Иидзима Хэйдзаэмон».
Коскэ был обескуражен. Он внимательно оглядел письмо. Все было правильно, письмо было написано рукой хозяина.
— Ну что? — с ехидством спросил Гэндзиро. — Ты ведь грамотный? Письмо, в котором твой господин приглашает меня зайти хотя бы ночью и починить снасть! Нынче ночью мне от жары не спалось, вот я и пришел. А ты принялся меня подозревать в разных глупостях, всячески меня поносил, оскорбил меня! Что же мы теперь с тобой будем делать?
— Все, что вы изволите говорить, ничего не значит, — угрюмо ответил Коскэ. — Не будь этого письма, я бы доказал свою правоту. Но письмо есть, и я проиграл. А кто из нас в действительности прав и кто виноват, спросите у своей совести. Только не извольте забывать, что я слуга этого дома и зарубить меня было бы опрометчиво.
— Кому нужно рубить такую грязную скотину, как ты? — презрительно сказал Гэндзиро. — Изобью до полусмерти и будет с тебя. Не найдется ли у вас какой-нибудь палки? — обратился он к О-Куни.
— Вот, пожалуйста, — отозвалась та и протянула ему обломок лука сигэдо.[121]
— Это несправедливо, господин, — сказал Коскэ. — Как же я смогу служить, если вы изувечите меня?
— Если подозреваешь человека, говори ему об этом прямо, — сказал Гэндзиро. — Приведи доказательства. Ты что, застал нас с госпожой О-Куни на одном ложе? Я пришел потому, что меня пригласил твой хозяин! А ты зарвался, мерзавец!
Он с размаху ударил Коскэ. Тот вскрикнул от боли и сказал:
— Все равно вы говорите неправду. Прислушайтесь лучше к своей совести, а не бейте безответного дзоритори.
— Молчать! — закричал Гэндзиро и набросился на Коскэ. Коскэ с воплями покатился по земле.
Нанеся дюжину ударов, Гэндзиро остановился, и Коскэ с ненавистью поглядел ему в лицо. Гэндзиро ударил его по лбу. Брызнула и полилась кровь.
— Тебя бы следовало убить, подлеца, — сказал Гэндзиро, — но так уж и быть, дарую тебе жизнь. Если впредь будешь болтать такое, то убью. А в дом ваш, госпожа О-Куни, я больше не приду.
— Если вы не будете приходить, — возразила О-Куни, — нас будут подозревать еще больше!
Но Гэндзиро, довольный поводом улизнуть, не стал слушать ее и отправился домой, шлепая босыми ногами по каменным плитам садовой дорожки. О-Куни повернулась к Коскэ, изнемогавшему от боли.
— Что, попало? — сказала она. — Сам виноват. Надо же, наговорить такое господину соседу! Ну что ты здесь торчишь? Убирайся вон отсюда!
Она изо всех сил пнула его в бедро. Он упал, больно ударившись коленом о каменную плиту. О-Куни задвинула ставни и удалилась к себе. А Коскэ бормотал дрожащим от злости голосом: «Скоты, скоты, подлые собаки, погрязли в своих гнусностях и меня же избили, все расскажу господину, когда он вернется… Нет-нет, так прямо рассказать нельзя, господин непременно устроит мне с ними очную ставку, они в оправдание покажут письмо, а я только разговор их слышал, других доказательств у меня нет, да еще этот Гэндзиро из самурайской семьи, а я всего-навсего подлого звания дзоритори, меня просто выгонят из дома, хотя бы из вежливости перед соседом… А если меня здесь не будет, господина моего уж наверняка убьют. Сделать нужно по-другому. Гэндзиро и О-Куни заколоть пикой, а затем вспороть себе живот». Вот что придумал верный Коскэ. Что же будет дальше?
Двадцать третьего июня, когда Хагивара Синдзабуро одиноко сидел у себя дома в мечтах о барышне Иидзиме, к нему вдруг явился Ямамото Сидзё.
— Давненько я у тебя не был, — принялся он болтать. — И ведь все собирался, но, понимаешь, тащиться к тебе сюда с Адзабу очень уж далеко, да и лень, признаться, да вдобавок еще жара наступила такая, что даже у коновалов вроде меня пациенты появились, вот так одно на другое нашло, что только сегодня собрался… А ты что-то бледен, видимо, самочувствие у тебя неважное…
— Да, чувствую я себя скверно, — сказал Синдзабуро. — Лежу с середины апреля. Кушать не хочется совершенно, почти ничего не ем. И ты тоже хорош, столько времени не приходил! Я так хотел еще раз пойти в усадьбу господина Иидзимы, поблагодарить, хоть коробку сладостей отнести… Но ведь без тебя и пойти не мог…
— А знаешь, — сказал Сидзё, — барышня Иидзима-то скончалась, бедняжка.
— Как так скончалась?
— Зря я тогда водил тебя к ней. Она в тебя, кажется, влюбилась по уши, и что-то у вас там с нею было в ее комнате… Не думаю, впрочем, чтобы что-нибудь серьезное, но больше я туда не ходил. Помилуй! Да узнай об этом ее батюшка, он бы сразу спросил: «Где этот мерзкий сводник Сидзё?», и — чик! — покатилась бы моя бритая голова. Нет уж, уволь. А на днях захожу я в дом Иидзимы, и господин Хэйдзаэмон сообщает, что дочка его скончалась и следом за нею умерла также ее служанка О-Юнэ. Я начал расспрашивать, что и как, и постепенно понял, что барышня сгорела от любви к тебе. Вот и получается, что ты совершил преступление. Если мужчина родился чересчур красивым, он преступник. Вот так, друг мой. Ну ладно, умершие умерли, ничего не поделаешь. Помолись хоть за нее. Прощай.
— Погоди, Сидзё! — попытался остановить его Синдзабуро, но он уже скрылся. — Ушел… Хоть бы сказал, в каком храме ее похоронили, так нет, умчался… Какой ужас, неужели бедная девушка и вправду умерла от любви ко мне?
У него закружилась голова, уныние овладело им с новой силой, а так как он был человеком доброго сердца, то здоровье его совсем расстроилось. Он проводил теперь дни в молитвах перед домашней божницей, на которую возложил дощечку с посмертным именем своей возлюбленной.
Наступил праздник Бон,[122] пришло тринадцатое число. Вечером, закончив все приготовления, Синдзабуро расстелил на веранде циновку, возжег ароматические палочки, надел белое кимоно и, отмахиваясь веером от комаров, устремил грустный взгляд на ясную полную луну. Вдруг он услыхал за оградой стук гэта. Он оглянулся и увидел двух женщин. Впереди шла представительная женщина лет тридцати, в прическе марумагэ.[123] Она несла фонарь с модным в те времена шелковым колпаком в виде пиона. Следом шла молоденькая девушка в высокой прическе симада. На ней было кимоно цвета осенней травы с узорами на подоле и рукавах, под которым виднелось нижнее кимоно алого шелка, затянутое атласным оби.[124] В руке у нее был веер с лакированной ручкой. Женщины вышли на лунный свет. Синдзабуро всмотрелся. Что такое? Да ведь это же О-Цую, дочь Иидзимы! Он поднялся и вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть девушку. Увидев его, женщины остановились, и та, что была впереди, воскликнула:
— Не может быть! Господин Хагивара?
Синдзабуро тоже узнал ее.
— Госпожа О-Юнэ? Как же так?