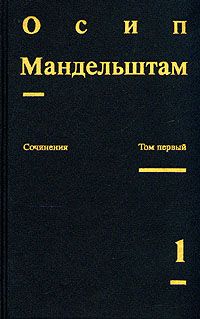XXIX
24 октября
Не помню где я читал, дорогой FI., что после победы при Арбелах войска Александра, утомленные жарой и ратоборством, нашли себе отдых в стенах царского заповедника, к которому вышли вечерней порой. Повалив золоченую ограду, украшенную львами, они вошли в урочище, где роскошь, скучающая своими удовольствиями в ту минуту, когда только приступает к ним, истощила свою предприимчивость, чтобы пренебрегать ее плодами. Они шли по волнистым смарагдам травы, раздвигали низкие кроны, смыкавшиеся за ними подобно сонным векам, кидали друг в друга пунийскими яблоками, чертили копьем по коре, следя, как каплет бальзам. Весна царила там и ветер, населявший землю растениями, коих тщетно искать в других краях; по прихотям восточного воображения там бился ключ, пахнущий медом, и ключ, пахнущий полынью, а среди кустов вдруг открывались искусно запрятанные зеркала, пугавшие воинов неожиданными встречами. Птицы, соревнуясь, пели сладострастными голосами такие песни, что если перевести их на человеческий язык, то за непристойность любой законодатель навек изгнал бы этих певцов из своего города, как, говорят, некогда один властитель изгнал из своей столицы стаю ведьм, обращенных сороками. Воины пили из ключей, черпая пястью и шлемом, срывали плоды, и их одолевал попеременно то гнев, то сластолюбие, то страх, то дерзость, то желание нарушить присягу своему царю, то стремление немедленно умереть ради нее. И между тем как они бродили, оступались и падали, более в самих себе, чем где-то еще, один отряд разбитых полков Ахеменида, кипя неутоленным гневом, подошел к тем местам и, упущенный бормочущими часовыми, вдоль которых вился плющ, вошел в проломленную ограду царского увеселения. Тогда-то и совершилась самая удивительная битва, о которой ни Птолемей, ни иные не написали из-за глубокого смущения, одолевавшего их, едва они приступали к этому предмету: ибо редко человеку доводилось биться со столькими вещами, большей частью зримыми лишь ему одному. Было так, что, когда македонянин, заметив перса, шел на него с обнаженным мечом, прекрасный барс, соскучившийся по царским посещениям, прыгал из кустов на них обоих, и перс с македонянином объединяли свой воинский опыт, чтобы одолеть это ожившее сплетение солнечных пятен и теней. Было и так, что страшные змеи, столь изобильные в бальзамических лесах[22], прянув, неслышно вонзали зубы — и воин, разгоряченный, в одиночку убивал великого слона, пил несмешанное вино из Ганга, спускался в преисподнюю, чтобы заслужить благосклонность царя, и возвращался оттуда с великой добычей, — в ту минуту, как, нагнувшись в траве над его остывающим телом, враг иль соратник снимал с него шлем и перевязь. А ученые птицы — бывало и так — повторяли в зеленой глуши человеческие слова, и одни кидались туда за помощью, а другие пускали стрелу на звук чужой речи. Все впивалось и складывалось, как атомы геометров, словно пытаясь соткать новую вселенную, движимую разными формами исступления; и даже неведомые звери, коих персидский Дарий собирал с вдумчивостью и старанием, опустошая подвластные страны, так что неприхотливые крестьяне Гиркании и Согдианы страдали бессонницей, не умея заснуть без привычного рева и урчанья за дверью, — даже эти, говорю я, звери, неведомые никому, кроме самих себя и нескольких героических песен, обремененных их участием, выползали из своих берлог, где привыкли прятаться от царской колесницы, и бросались на людей, в предсмертный миг знакомя их вкратце со своим существованием. Так совершалось все это, а олени неслись прочь, как от лесного пожара; но если кто смотрел в тот час на царский парк снаружи, ни за что ему было не догадаться, какие диковинные вещи творятся в этих угодьях: все так же горлицы ворковали, целуясь, и ветви платанов смыкались, и яблоки висели над золоченой изгородью, украшенной неподвижными львами.
Так, мой FI., и мы с Филиппом, застыв посреди баронской столовой, озирались в ее пустынном блеске, как никогда прежде думая о том, что это место отведено для людей, всегда способных блюсти уместность в облике и поступках, как советует комический поэт:
там похвали какую чашу медную{41},
дивися потолку, коврам разложенным, —
а между тем вопрошая себя, на что мы похожи, ободранные, рыбой пахнущие, в ссадинах и смоле от древесных верхушек, на которых плачевно отсиживались, уж третий час как бродящие по этому дому от двери к двери, и наконец будто насильно ввергнутые в чертог, где наша потертость вопияла к небу хуже любого нечестия. Столы же были сервированы человек на двадцать, и расставленные блюда дымились, будто их только что испекли невидимые повара и подали невидимые слуги; и я избавлю и Вас, и себя от ненужных тягот, если не буду расписывать, какое это было нестерпимое мучение, видеть и обонять этот безлюдный пир, будучи лишенным возможности вкусить от него. Сколько раз, забывшись, протягивали мы руку и отдергивали ее: вдруг это то самое блюдо, опрометчивое вкушение которого погубило барона Эренфельда в тот момент, когда он, возможно, готовился к одному из самых интересных и хорошо устроенных злодеяний в своей жизни? не тот ли это соус, от которого уши начинают шевелиться, а волосы спускаться на лоб, не спрашиваясь у хозяев? кого тут ждали в таком числе и для человеческих ли утроб все это приготовлено? Увидев на столе серебряный колокольчик для вызова лакеев, я высказал мысль, что, если позвонить, нам принесут лимонное мороженое в гнутых вазочках (собираясь на этот обед, я почему-то больше всего думал о лимонном мороженом, а «надежда, которая откладывается, уязвляет душу», как говорит царь Соломон), но Филипп пообещал побить меня, если я трону этот колокольчик, и у меня не было причин ему не верить. Словом сказать, бродили мы вдоль пышного стола, с ума сходя от вожделения, как Главковы кобылицы, и сами себя хватая за руки, бывшие, надо напомнить, в этой зале единственными столовыми приборами, — ибо все то, с помощью чего можно было резать, черпать и накалывать, гремело по дому нескончаемым дозором, воплощая в себе и стража, и его оружие.
Филипп сказал (и речь его была прерывистой, поскольку ему приходилось то и дело сглатывать слюну), что, как бы ни был велик соблазн, на этот раз мы должны, ободряя и удерживая друг друга, противостоять ему, потому что в этой еде, что глядит на нас так радушно, без сомненья, и заключены самые адские козни и замыслы, какие есть в этом доме, и если мы избежим ее, то можем твердо надеяться выйти отсюда благополучно. Я отвечал ему, что завидую его уверенности, но остаюсь при убеждении, что природа любит прятать свои десерты и что, как выражался один мой знакомый, у нее есть такие тузы, к которым ни одна масть не подходит; я хочу этим сказать, что люди, бывает, упражняются в том, чтобы доставить себе неприятности одним определенным способом, который представляется им наиболее прямо ведущим к цели, а тем временем неприятность спешит к ним по дороге, которой они манкировали и на которую давно уж не выходили взглянуть, не идет ли там кто. Тут я мог бы напомнить Филиппу историю R., которого он, конечно, помнит, — того самого R., что известен в определенных кругах как музыкант-любитель, чей досуг равно прокляли небо и земля, и как неплохой малый, что был бы еще лучше, если бы практиковал свое неумение играть на флейте в местах, отдаленных от людских поселений хотя бы на два дня быстрого пути. Если принять во внимание, что за время, которое R. тратил ежедневно, отправляя свое дыхание по череде певучих скважин, как мышь в лабораторном лабиринте, можно было бы совершить два-три неблаговидных поступка или же один предосудительный, то по зрелом раздумье общество должно было быть ему признательно, что, обладая такой бодростью и упорством, он ограничивается лишь попранием законов гармонии, а не каких-либо из тех, упадок которых способен увлечь за собой гражданское общество; беда в том, что всякий раз как R. приводил в действие свою музыкальную дыбу, у общества не хватало терпения досчитать до десяти, так что до зрелого раздумья дело, можно сказать, никогда и не доходило. Одна старушка, снимавшая квартиру прямо над ним (сейчас она на минеральных водах, где лечится от каких-то подергиваний, которые свежим пациентам представляются признаками необычайной общительности; из-за этого она постоянно попадает в щекотливые положения), — это благочестивая женщина, которую нельзя заподозрить в каком бы то ни было вольнодумстве, даже из невинного пристрастия к острому словцу, — говорила мне, что если ангелы, призванные возвещать Апокалипсис, окажутся так же хороши с духовыми инструментами, как R., то даже при участии их одних, без саранчи и всего остального, она считала бы программу конца света более чем удовлетворительной. Из всего этого понятно, что матримониальные перспективы R. выглядели неутешительными; правда, некоторые из его знакомых говорили, что не надо отчаиваться и что, например, на Оркнейских островах, жители которых ложатся и встают под рев пучины, дробящейся об утес, наверняка бьется женское сердце, способное найти своеобразную прелесть в мелодиях молодого R.; но тут он, можно сказать, потряс всех объявлением о своей помолвке. Где он познакомился с этой девушкой, я не знаю; я видел ее и искренне считаю, что на ее совести не может быть ничего такого, расплатой за что может считаться брак с R., а если имелись в виду ее будущие грехи, то ей надо браться за них немедля, потому что век человеческий короток, и она может не успеть совершить так много, если будет отлынивать. Во всяком случае, она упорствовала в намерении стать его женой, хотя слышала его флейту и, более того, видела его лицо в те моменты, когда он выдувал особенно удачную трель, — это лицо давало исчерпывающее объяснение, почему Афина отбросила свирель, но оставляло открытым вопрос, как кто-то мог ее поднять. И все шло лучше некуда, покуда в торжественный момент R. не решил протянуть ей кольцо, став на одно колено, а кольцо в красивой коробочке — чтобы не попалось на глаза раньше времени — прятал на шкафу, положив его под гипсовый бюст Буало (для таких случаев подставки у бюстов делают полыми); когда же он зазвал девушку к себе в логово, намекнув ей на что-то важное, то от поспешности, с какою он выдергивал коробочку, на девушку, не успела она толком оглядеться, рухнул со шкафа Буало, «как бородатый метеор сквозь пурпурную ночь», по слову поэта, и не прояви она резвость, столь любезную нам в молодых летах, мог бы нанести ей больше ущерба, чем когда-либо наносил женщинам своими сатирами. Тут она раскричалась, что R. всеми средствами силится сжить ее со света, хотя она ничем перед ним не провинилась, но впредь она побережется; и как ни кричал ей вслед молодой R., моля о снисхождении, как ни свешивался в окно, когда она пробежала по улице, а все-таки девушка к нему не вернулась, и пришлось ему следующие полчаса, которые он предвкушал сладостнейшими в своей жизни, провести с веником, выметая Буало из своего кабинета. Вот так-то, сказал я, заканчивая рассказ; хотя и говорится, что «мужу флейтисту ума не вдохнули бессмертные боги», а все-таки одного неразумия недостаточно, чтоб быть счастливым, — надо прикладывать и дополнительные усилия.