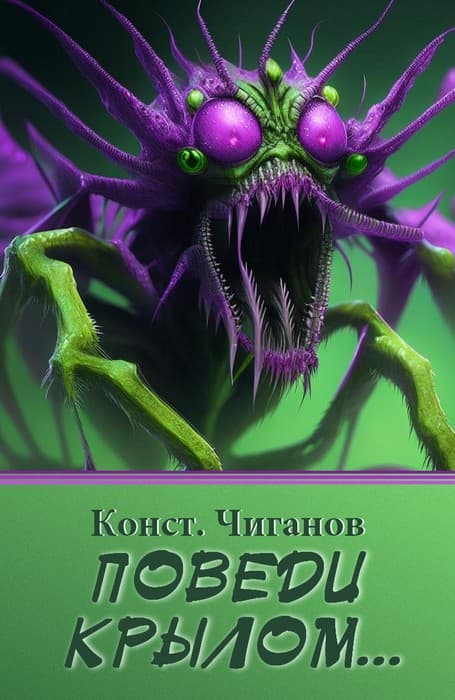факелом в левую руку, а правой достал маузер.
В сенях не нашлось ничего интересного, кроме разве что старого хомута на стене — видно, были в хозяйстве и лучшие времена, с хозяином и своей лошадью…
Вторая дверь не заперта, да и от кого. Из маленького тупичка с вязаным половиком вели два темных дверных проема. Сперва Заревой сунул факел в один, другой — ничего — и вошел в правый.
Маленькая, чистенькая комната в половичках, с роскошью — городской кроватью при шишечках, заправленной пестрым одеялом. Окно тщательно завешено. В углу полочка с иконами — иконы оказались ликами повернуты к стене. Наум хмыкнул, озираясь. На простеньком облупленном комодике при кровати две фотографии в рамках. Большая, кабинетная, в трещинках возраста: семейная. Бородатый мужчина в поддевке, в полосатых парадных брюках и смазных сапогах выпрямился за венским стулом, на стуле сидит миловидная женщина в опрятном сером платье, в платочке, при ней стоит темноволосый хорошенький мальчик в вышитой рубашке, новых плисовых штанах и лаковых сапожках — франтик.
На втором фото, на вид гораздо новее, по пояс снят красивый молодой человек с темными усиками, в форме поручика. Новенькие погоны еще топорщатся, фуражка лихо сдвинута, улыбка пухлых губ приоткрывает белые зубы, темные глаза словно следят за зрителем.
Наум тронул фотографию тонким стволом маузера.
— Ну, вот ты каков был. Теперь все понятно. Приполз к матери стреляный, а еще не перекинувшись до конца, иначе не совладал бы с собой, сразу высосал. А она-то… от дура старая…
Молодой красавец промолчал, конечно. Но в глубине дома вроде бы ворохнулось.
Наум перешел во вторую комнату, побольше, с печью и тоже наглухо занавешенными окошками.
Факел отбрасывал по углам кривляющиеся тени. Нехитрая мебель по стенам Наума не заинтересовала. У печи возле зольника стояла большая миска, Заревой глянул: стенки покрывал толстый кровяной налет. Посреди пола валялась свеча — факел высветил тусклое кольцо, тронутое ржой, щели хорошо подогнанного подпольного люка. Наум опустил факел: у крышки подпола темнело несколько пятен.
— Кормила, значит, родного упыря. Дуры все бабы и есть, — заключил Заревой, — разве ж ему, живоглоту, куриной крови хватит? Вот и…
Прислонил факел к печи и рывком откинул крышку, сжимая маузер. Оттуда пахнуло тяжко, смрадно.
Добротная наклонная лестница вела вниз.
Наум выдохнул, прошептал что-то, взял факел и просунул в люк.
Никого.
Большие бочки с чем-то подтухшим стояли по земляным стенам подпола. Наум спрыгнул со ступеньки, крутанулся по всем правилам боевого искусства, выписывая пламенем восьмерки.
Ну?!
Позади лестницы сверкнули зеленые мертвые огни, смердящее чудовище прыгнуло, отбив факел когтями, но трижды рявкнул маузер, и давно уже мертвый враг рухнул с хриплым воем. Выровняв прицел, еще дважды выстрелил Наум упырю в голову и пылающим колом пригвоздил сквозь грудь к земляному полу.
Пламя зашипело, но не погасло — занялись лохмотья на теле убитого во второй и последний раз.
Человек вытер испарину со лба, втянул ноздрями смрад разложения и кислость бездымного пороха.
Пред ним, как жук на булавке, еще подрагивал серый, клыкастый, бескровный труп. Над ощеренным ртом с торчащими белыми костяными шильями топорщились черные усики. Остатки гимнастерки, синих бриджей и добротные кожаные сапоги делали это чем-то похожим на карикатуру — белого офицера-кровопийцу с памятного агитплаката. Да только карикатуры не воняют падалью и не скребут землю когтями, оставляя глубокие борозды.
— Старый, — сказал Наум охрипшим голосом, щелкая зажигалкой. — Недолго тебе, падаль, корячиться. В землю уходи.
И точно, серая плоть уже пошла черными пятнами, глаза сделались стеклянными и провалились куда-то в гнилой череп. Кожа твари расползалась на глазах, черная жижа быстро впитывалась в землю. Огонь на колу зашипел и стал угасать. Зловоние становилось нестерпимым, и Наум, сунув в колодку разряженный маузер, поднялся наверх. Захлопнул крышку подпола и затащил на нее струганный стол от окна.
Сказал, отдышавшись:
— Спалить бы это блядство-гнидство. Да горючку жалко…
Дверь дома он заколотил оторванными досками как раньше, накрест, но теперь уже только из добросовестности, а не предосторожности. Зарядил маузер обычными патронами на человека, без драгоценных серебряных пуль.
Мотоциклет зафыркал, застрелял глушителем, отбросил на дорогу пучок света от яркой электрической фары. Рванулся и унес Наума Заревого прочь от проклятого дома.
У телеграфа губернского города с вишневого мотоциклета спрыгнул усатый комиссар в военном, с маузером на боку. Поглядел на золотое солнышко, слегка улыбаясь. Прошел внутрь, немного напугав смуглую барышню-телеграфистку. Улыбнулся и ей одобрительно, попросил отбить депешу в Москву, а ему выдать почтовый конверт.
В депеше стояло два слова: «Заря взошла».
Если бы кто-то заглянул через плечо усталого человека, с трудом корябающего скверным почтовым пером, в начале письма он прочел бы:
«Уважаемый товарищ Глеб! Все благополучно, продолжаю работу».
Дальше шла тарабарщина из букв и цифр, и только в конце стояло несколько нормальных фраз:
«Всегда буду помнить наш с вами прощальный разговор и ваши слова: любая шевелящаяся еще нечисть не только льет воду на мельницы дремучего поповства в людском сознании, но является злейшим врагом народной власти трудящихся и подлежит тотальному, жесточайшему искоренению на всей территории Советского государства. И задача ваша будет выполнена без малейших колебаний и слабости с моей стороны.
Передавайте привет нашим и восточным товарищам. Да здравствует наша молодая республика!
Искренне ваш
Н. Заревой»
Запечатав конверт, после столичного адреса он приписал: «Тов. Г. Б. лично в руки» и, чуть прихрамывая, пошел к почтовому ящику.
Полуденное солнце прожаривало дорожную колею и уже уморило почти всю молодую растительность вдоль шляха, кроме самых матерых деревьев, которые и не такое видали, но и они покачивали ветвями устало.
С треском и громом, в облаке белой мельчайшей пыли, несся сквозь раскаленный воздух некогда вишневый, а теперь запыленный до полной неразличимости мотоциклет английской марки БСА, и странник в полувоенной одежде оглядывал с него окрестные поля, щурился сквозь очки-консервы.
Внезапный порыв горячего ветра поволок дорожки пыли навстречу мотоциклу, скрутил из них вихорек. Секунду спустя уже серый вихрь выше человека качался на пути тугой воронкой. С явственным свистом он направился — как-то уж очень разумно — навстречу ездоку.
Мотоциклист, чуть сбросив скорость, снял руку с руля, потянулся к голенищу сапога и метнул в воронку блеснувший предмет.
Вихрь явственно застонал, замотал верхушкой и распался.
Мотоцикл тормознул, и седок поднял из пыли маленький прямой нож с узорчатым гравированным лезвием и простой деревянной ручкой. Вытер о штанину, оставив на