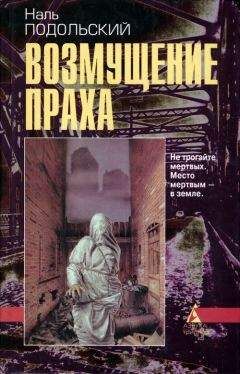На несколько секунд установилось молчание, а затем отчетливо прозвучало:
— Хам.
Это высказался белобрысый хлюпик, который не успел поспорить с Амвросием относительно посвящения Философа.
Ах ты крысенок… сейчас схлопочешь.
Тихо, Крокодил. Я сам. Помни, я, а не ты, владею Пальцем.
— Опыт показывает, — начал я нарочито скучным голосом, — что лица, публично обвиняющие других в хамстве, обычно сами страдают этим пороком, а если такому лицу к тому же не хватает сообразительности немедленно извиниться, то оно расписывается еще и в собственной глупости, поскольку неосторожно пытается распространить свои личные свойства на все почтеннейшее собрание.
На этот раз молчание длилось довольно долго: никому не хотелось встревать в неприличную перепалку.
— Он прав, — неожиданно проскрипел Порфирий, и щель его рта плотоядно изогнулась: он, надо думать, имел свои счеты с белобрысым.
— Приношу извинения, — выдавил тот из себя после паузы, — я лишь имел в виду, что мы все полностью доверяем друг другу. — Застегнув трясущимися руками портфель, он, никем не удерживаемый, удалился.
Гномику выпал сегодня несчастливый день, на него было жалко смотреть. Повестка дня была явно исчерпана, но он никак не мог найти подходящих слов, чтобы с соблюдением приличий закрыть заседание.
— Но позвольте, — вдруг вскочил Мафусаил, размахивая руками, — мы забыли, совсем забыли… Мы хотели еще обсудить посвящение почтенного Крокодила… и узнать точку зрения на это почтенного Философа. — Обернувшись к нему, он осекся и сел на место, а Философ бесцеремонно ухмыльнулся.
— Я согласен с достопочтенным Мафусаилом, — забубнил Крот, — это весьма и весьма важно. Ведь сама возможность сегодняшнего конфликта, смею сказать беспрецедентного в этих стенах, связана с тем, что у нас, столь высокий и ответственный пост занимает человек непосвященный… О, поверьте, дорогой Крокодил, у нас нет к вам ни малейших претензий, но почему бы вам не избрать себе наставника и не пройти сеанс посвящения хотя бы низшей, первой ступени? В вашей жизни открылись бы сразу же необозримые перспективы… я не преувеличиваю… совершенно безграничные возможности!
— Вы же не можете сослаться на то, что недавно были покойником, — нахально влез в разговор Гугенот, с раздражением поглядывая то на меня, то на Философа.
Обнаглел, совсем обнаглел… пора дать по рукам…
Ничего… потерпи, Крокодил… мы сегодня уже достаточно нахамили.
— Я всего лишь наемный служащий, по сути квалифицированный охранник, — я постарался напустить на себя побольше скромности, — и не знаю, кто такой Основатель, не знаком ни с его, ни с вашими идеями, и заниматься этим у меня сейчас нет времени. Да и нет у меня способностей к вашим наукам. Разве что почтеннейший Философ просветит меня… со временем. Вы уж простите солдатскую прямоту — о моем посвящении не может быть и речи.
— Да… да… но как же так… — растерянно бормотал гномик, полностью потеряв контроль над ситуацией.
— Ладно, на сегодня хватит, — узурпируя председательские права, вмешался Гугенот, — заседание ученого совета закрыто.
Так называемая эмансипация женщины не сопровождает ли всякое падение общества?
Николай Федоров
Как только истек месяц со дня моего последнего посещения сыскного бюро, я, как и подобает отпускнику, бодрый и жизнерадостный, завалился в кабинет Барельефа и был встречен с почетом. Дело в том, что за неделю до этого к нему явилась Анна Сергеевна Жуковская и изъявила желание поручить нашей конторе поиски двоих пропавших год назад родичей, при непременном условии, что дело будет вести тот же самый сыщик, который отыскал ее сестру Полину. Барельеф, выразив соболезнование по поводу столь фатальных пропаж родственников, объяснил, что я в отпуске, и предложил взамен, на выбор, несколько превосходных сыщиков, но старушка оказалась упряма, как целое стадо баранов. Она заявила, что дождется моего выхода на работу, и оставила свой телефон, каковой, впрочем, и так имелся в архиве.
Я ей позвонил, не отходя от стола начальника, и через час, за тем же столом, мы уже ворковали вчетвером — четвертым был Мафусаил, сказавшийся тоже родственником. Он вполне успешно придуривался, будто видит меня впервые, хотя в этом, собственно, не было необходимости. Он играл доброго гения семьи, этакий российский «Джон-плачу-за-всех», и первым делом потребовал, чтобы мне предоставили двух помощников по моему выбору и служебную машину. Барельеф по привычке начал канючить насчет нехватки машин и сотрудников, но Мафусаил его решительно оборвал:
— Я же не спрашиваю, какая у вас трудная жизнь, а спрашиваю, сколько это будет стоить. Или вы хотите, чтобы вашему сыщику нанимали помощников с улицы?
— Что вы, что вы! — Барельеф пришел в такую панику, что даже повернулся в своем кресле лицом к посетителям. — Это запрещено, это нарушение условий лицензии!
В результате уже к концу первого рабочего дня в моем бесконтрольном распоряжении были Джеф, недавно вышедший из больницы, и Вася — со своим автомобилем и огнестрельным арсеналом. Помимо этого, Мафусаил от себя предоставил отдельную машину в мое личное распоряжение, дабы я не тратил попусту своего времени, отныне целиком принадлежащего «Общему делу». И наконец, в крайних случаях, точнее, в «самых крайних» я мог привлекать к оперативной работе два-три человека из числа головорезов Порфирия. Я решил про себя, что обязательно воспользуюсь этим правом — хотя бы из любопытства посмотреть, что у него за ребята.
Джефа я поселил в квартирке на Боровой и сделал ему специальное внушение насчет того, чтобы не водил туда девчонок:
— Фотозасады обычно накрываются… кое-чем… именно из-за этого.
— Ладно уж… потерплю, чего там, — жизнерадостно отреагировал парень: ему нравилась работа с фотоаппаратурой.
Я привел ему в консультанты прыщавого фотографа из лаборатории, который оказался специалистом широкого профиля. С его подачи в одну из оконных рам вставили специальное стекло, снабдили длиннофокусную оптику Джефа разными хитрыми фильтрами, и теперь он мог стряпать отличные фотки, не приоткрывая окна, — деталь немаловажная с точки зрения техники безопасности. Кроме того, Джеф раздобыл ночную, инфракрасную аппаратуру, на случай если достойные внимания люди появятся в темное время суток.
Васю я сначала попробовал приспособить к прослушиванию домашних телефонов сотрудников «Извращенного действия», поскольку сама контора была в этом смысле совершенно непробиваемой. Но, как я и подозревал, он проявил себя, мягко выражаясь, слабоватым аналитиком, будучи совершенно не способным уловить и выделить в потоке болтовни потенциально полезную информацию. Позднее я выклянчил на эту роль у Порфирия сообразительную деваху, а пока мне пришлось телефонами заниматься самому, Васю же использовать как шофера и на подхвате, для подстраховки.
Я регулярно встречался с Кобылой. Как только она перестала выдуриваться, то оказалась превосходным, толковым агентом, и я стал даже думать, что она, может, и в науке не безнадюга. Мне удалось ей внушить, что деньки ее лавочки сочтены и из-под обломков живыми вылезут только те, кто сотрудничает с нами. За ничтожные, в сущности, если учитывать риск, суммы по несколько сотен баксов она быстро добывала нужные сведения, ее работа отличалась точностью и оптимальной формой подачи результатов. Иногда казалось, она делает это с удовольствием, то ли являясь прирожденной авантюристкой, то ли имея зуб на Щепинского. Меня она в открытую ненавидела, и я принимал это как дань уважения, потому что мужчины, с ее точки зрения, были существами низшего порядка, не заслуживающими никаких иных чувств, кроме пренебрежения.
Как ни смешно, поначалу мы с ней спотыкались на простейших бытовых мелочах: кто, что и где курит, пьют ли в рабочее время кофе, балуются ли спиртным в канун праздников, и если да, то что это: шампанское или казенный спирт? На такие вопросы она отвечала неточно и неохотно, видя в них подвох в смысле желания поиздеваться над ней, и, если я ловил ее на противоречиях в показаниях, злилась и хамила больше обычного. Постепенно она усвоила, что мне все это зачем-то действительно нужно, но так и не поняла своим негибким умом, зачем именно. Я же просто старался вжиться в их обиход, почувствовать себя одним из них, и, независимо от взбрыков Кобылы, мне это понемногу удавалось.
Научное заведение Щепинского имело, равно как лаборатория Крота, статус отделения Института физиологии мозга Академии наук, то есть, по сути, являлось самостоятельным мини-институтом и состояло из двух неравных частей. Меньшая была, так сказать, общенаучной, имела обычную академическую иерархию научных сотрудников и аспирантов, открытые заседания ученого совета и публикации в печати. Вторая же часть, коммерческая, скрытая от взоров научной общественности, занималась прикладными проблемами, работала в режиме секретности и из своих доходов выделяла малую толику на поддержку нищей старшей сестры, занятой чистой наукой и служившей для всей этой композиции респектабельной крышей. Как мне объяснил Мафусаил, ныне многие научные учреждения приобрели подобную структуру, именуемую в академическом обиходе «конфигурацией айсберга». На Боровой помещалась именно эта, подводная часть айсберга, и она-то, и только она, получила в окружении Крота несимпатичное прозвище «Извращенное действие».